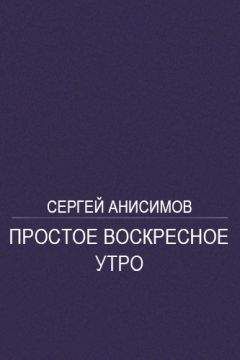Вионор Меретуков - Дважды войти в одну реку
— Согласен. Не надо было ему уж так прямолинейно всех поучать… Это раздражает даже умных людей, — Лёвин резко поворачивается к Рафу. — Знаешь, почему, в конце концов, мы оказались у разбитого корыта? — Тит говорит искренно, с чувством. — Мы писали наши опусы чернилами, а надо было — кровью!
Раф задумывается.
"Лёвин, по обыкновению, брякнул банальность. Ох уж эти мне прозаики, вышедшие из хрущевской косоворотки, — они без этого не могут. Шестидесятники хреновы.
Оттепель повлияла даже на таких отпетых конформистов, как Тит.
Оттепель привела к тому, что большие снега растаяли и обратились в мутную болотную воду.
И в этой-то болотной водице, рае для земноводных, соседствуя с лягушачьей икрой и тритонами, и зародилась якобы великая литература. Болотный век. Время пальбы холостыми патронами по постоянно ускользающей цели — в "молоко", которое всегда было обильно разбавлено дешевым портвейном.
Диссиденты. Где они теперь? Грохота было много, дел мало. Все ушло в пар. На большее их не хватило.
Их деятельность оказалась никому не нужной.
Начинали они очень крупно, дерзко, крепко, помпезно, драматично, даже красиво: на Красной площади приковали себя наручниками к чему-то несокрушимому и хорошо вкопанному в землю и тут же прославились на весь мир.
Начали хорошо, а закончили абсурдом, тупиком, театром теней в темноте.
Искали новое, а напоролись на старую рухлядь. Все вернулось на круги своя.
Диссиденты, непрактичные и беспомощные, свято верили в идеалы добра и справедливости и неосознанно рвались к мессианству.
Они не понимали, что восседать на вершине будет не тот, кто чист душой, а тот, у кого крепче кулаки и мощнее чресла.
Нежных и наивных диссидентов оттеснили иные человеческие особи, ни в чем не сомневающиеся и куда более жизнестойкие.
Позже столкновение нескольких противоборствующих сил, среди которых были бывшие партийные работники, криминальные авторитеты, вышеупомянутые диссиденты, случайные игроки-любители и профессиональные авантюристы, не высекло ожидаемую многими животворящую искру.
Новых, могучих властителей дум, сопоставимых с Петром Великим, Александром Вторым, Пушкиным или Толстым, на политическом и интеллектуальном небосклоне замечено не было.
И после Безвременья вместо прекрасного утра, сияющего прозрачной чистотой, пришло время второсортности, любительщины и пошлости.
Пьедесталы без боя захватила воинствующая серость.
Самыми богатыми стали самые безнравственные и жестокие.
Самыми известными — те, кто громче всех орал о демократии, не зная, с чем эту демократию едят.
В так называемом искусстве та же картина….
Место заурядного Вельтмана благополучно занял столь же заурядный, раздувающийся от сознания собственного величия и всезнания Веллер, по которому плачет профессура заведения имени Сербского. Веллер — это верховой кочевник, поющий песнь о том, что видит в данный конкретный момент. Веллер описывает всё, что находит его недобрый червивый глаз. Он всеяден, как енот или свинья. Сжирает всё, что встречает на своем пути. Живет почти по Достоевскому, с той лишь разницей, что готов сожрать не только тигра, корову и траву, но и самого Достоевского.
Потапенко превратился в бездушного, прагматичного Акунина, который строит свои "романы" по лекалам и схемам, придуманным еще при царе Горохе.
Роль Боборыкина исполняет Маринина, а Донцова заняла нишу мародерствующих графоманов, во все времена полагавших, что они тоже "писатели".
Улицкая сидит в кресле (вернее, на его краешке) Блаватской и так же, как и ее предшественница, не знает, о чем пишет.
Словом, в стране царит хаос, в котором превосходно ориентируется "человек из народа".
Он, этот "человек из народа", знает, что если и есть в чем-то смысл, то, скорее всего, этот смысл не в якобы свежих откровениях, а в древних, избитых истинах, вроде десяти заповедей.
Только я бы увеличил количество заповедей, придуманных грамотными, прозорливыми и хитроумными священниками. Придумано хорошо, слов нет.
Но, посмотрите, сколько веков прошло с тех пор. Время движется, нельзя же топтаться на одном месте! Заповеди не охватывают всего того, что вытворяет нынче человек…
О чем это я?! Мысли всё время куда-то ускакивают…
…За сорок лет адовых мучений вышло более двадцати сборников моих стихов. Тиражи миллионные! И что? Если бы я писал все свои сочинения так, как советует крепкий задним умом Тит, то моей бледненькой крови, моих нищенских интеллектуальных и духовных запасов хватило бы максимум на пару тонюсеньких книжонок.
И что бы я тогда, спрашивается, делал, на какие бы шиши содержал свою шестикомнатную берлогу?..
Вокруг меня крали, крали, много крали. И я крал. Но делал это так, чтобы никто не заметил, чтобы никто не понял, насколько не самостоятельна моя поэзия.
Так бывает не только с поэтами. Куда чаще это случается в музыке. О, великий вор Исаак Дунаевский! Вор высочайшей пробы. Вор, каких мир не видывал. Вор, вор, вор, но какой обворожительный и талантливый вор! Но я никогда не скажу об этом вслух.
Итак, моя одиннадцатая заповедь звучала бы так: если ты украл, зараза, укради еще два раза — для ровного счета. Бог простит, ибо Он Троицу любит. Украл и остановись, не то подавишься!
И умей прятать концы в воду, поглубже, поглубже, так, чтобы ни одна ищейка не нашла! И еще одно — умей вовремя остановиться. Фраера что губит?.. То-то же! Господи, как же я сложно мыслю после всех этих проклятых пьянок! Сам себя с трудом понимаю!"
Раф оглядывает гостиную, как будто видит ее впервые…
В углу, в кресле, в позе медитирующего Будды, спит Герман Иванович Колосовский.
Со стороны может показаться, что он не только спит, но еще и о чем-то думает. И, судя по величественно оттопыренной нижней губе и наморщенной коже на лбу, думает никак не меньше чем о судьбах мира.
Так и кажется, что он подумает-подумает и решит что-то необыкновенно важное, какую-то чрезвычайно запутанную всечеловеческую проблему, которую триста лет никто решить не может и от решения которой зависит будущее всей земной цивилизации, решит, проснется и тотчас же заснет снова.
Прежде Герман красил голову. В подозрительный черный цвет. Басмой. Чтобы выглядеть моложе.
Волосы приобретали шелковистость и явственный зеленовато-могильный отлив. Женщинам нравилось.
Если голова Германа попадала под яркий свет, она начинала светиться, как издыхающий газовый фонарь в безлунную ночь. Герман страшный бабник. "Впрочем, как и все мы, — вздыхает Раф. — Хотя мы на каждом углу орем, что бабы нас не интересуют. Что они для нас на втором месте. Или даже на третьем. На первом же — дружба. На втором водка. Можно и так: на первом — водка, на втором — дружба. Но женщины все равно — на третьем. Можно подумать, что женщины для нас не существуют. А на деле ни одна попойка без баб не обходится. Итак, раньше Герман красил волосы. Теперь не красит. Действительно, не покрасишь же лысину? Хотя…"
В советские времена Герман Колосовский был очень крупной шишкой в одном из отраслевых союзных министерств. Чёрная "чайка" со сменными водителями. Дача в Барвихе. Место в президиумах. Бессрочная броня на десять квадратных метров на Ваганьковском кладбище (до Новодевичьего недотягивал: не хватало пары шагов по служебной лестнице). Шикарный кабинет с туалетом, ванной и комнатой для послеобеденного отдыха, две секретарши.
Секретарши более двух лет не задерживались. Менял. Отчасти из-за подозрительности жены (он в те годы был женат), но больше потому, что любил разнообразие.
По слухам, готовился стать министром, но готовился слишком долго, и на вираже его обскакал какой-то невзрачный выдвиженец из глубинки, а Германа отправили на заслуженный отдых. В этой связи Колосовский страшно обозлен на все, что, так или иначе, связано с "демократическими" преобразованиями в стране.
Кресло, в котором спит Герман, своими избыточными размерами и чрезвычайно солидным видом напоминает царский трон в его мягком, "бархатно-пружинном", варианте.
Кресло это, в соответствии с фамильными преданиями, которые когда-то гуляли в семье хозяина квартиры, якобы было подарено лично Владимиром Ильичем Лениным деду Рафа, Соломону Шнейерсону, профессиональному бомбисту, за то, что тот в 1913 году в Калуге поднял на воздух какого-то несчастного вице-губернатора вместе с каретой, лошадьми и форейтором.