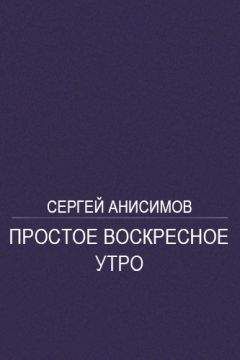Вионор Меретуков - Дважды войти в одну реку
— Очень трогательно…
— При этом я всегда в качестве учебного пособия держал на рабочем столе вместе со словарями Ожегова и Даля романы Тургенева и Шолохова. А также книги своих потенциальных конкурентов, всяких там писателей-деревен-щиков, которых у нас тогда было до черта и больше. Они помогали мне, когда бывала заминка с развитием сюжета. Знаешь, бывает, зазеваешься, отвлечешься на пьянку или бабешку, и работа вдруг останавливается, и не знаешь, что писать дальше. А так почитаешь и такого, брат, наберешься от них уму-разуму, что потом тебя и не остановить… Таким макаром я накатал двенадцать романов, три из которых были удостоены государственных премий, и я едва не стал гертрудом…
— Читал я эти твои романы…
— Мне не по душе тон, которым ты говоришь о моем творчестве!
— Перебьешься! Искренность за искренность! Плачу той же монетой! Когда я читал твои опусы, меня охватывало странное чувство: мне казалось, что с каждой страницей я становлюсь ниже ростом. Чтобы разобраться в том, что ты пишешь, мне приходилось вжимать голову в плечи, иначе я бы все время ударялся башкой о воображаемый потолок. В твоих романах нет простора, воздуха, фантазии, полета! А значит, нет жизни. Твои романы — мертворожденные дети. Так и кажется, что ты писал свои книжки, умышленно заточив себя в непроветриваемый подвал с низкими сводами или в разваливающийся от старости деревянный сортир. Тебе самому-то нравилось то, что ты писал?
— Нравилось.
— А сейчас?
Лёвин медлит с ответом.
— Не очень…
Раф не ожидал, что признание Тита так больно заденет его. Он почувствовал что-то похожее на сострадание, смешанное с раскаянием. Тем не менее, он продолжает:
— Убежден, ты не смог бы, попроси тебя до конца быть откровенным, ответить честно, что тобой двигало, когда ты садился за письменный стол. Слава? Потребность высказаться? Сотворить шедевр? Надежда поразить потомков тобой одним найденной истиной? Всё ложь… Ложь, ложь, ложь! — Раф встает и начинает нервно ходить по комнате. — Скажи, Фомич, стоило ли так стараться? И кривить душой?
— Стоило. Еще как стоило! — убежденно восклицает Тит. — У меня же квартира на Тверской! Не хуже твоей. И дача о двенадцати комнатах в Старой Рузе!
— У меня… тоже дача, и тоже о двенадцати комнатах. Но я же с тобой серьезно!.. — с досадой говорит Раф.
— И я серьезно! Скажи, разве можно создать нечто значительное, не водя читателя за нос? Да, я занимался этим, не скрою, ради денег, но я любил свою работу и делал ее, пылая искренней любовью к одураченному читателю, который отвечал мне взаимностью…
— Теперь все понятно! Я этим заниматься не буду… — Раф морщится.
— Всю жизнь занимался, а тут нА тебе… Чем же ты будешь заниматься? Жрать-то надо…
— Я буду заниматься неблагодарным делом — выпекать шедевры!
— Ну-ну, в добрый путь! А как ты их будешь печь? Из чего? Рецептура производства литературных ватрушек тебе известна? Ты хоть знаешь, что, для того чтобы блюдо получилось не только съедобным, но и вкусным, тебе необходимо обзавестись исходными продуктами только высшего качества?
— Я знаю главное — булочник должен быть талантливым…
— Булочник, прежде всего, должен быть опытным и знать, что надо положить в тесто. А это есть во всех кулинарных книгах. Знание плюс дарование могут родить нечто… — Тит причмокивает, — нечто удобоваримое… И еще, если писатель садится за стол с твердым намерением создать шедевр, его ждет крах. Он не сдвинется с места, парализованный страхом перед грандиозностью задачи. Либо напишет беспомощную галиматью, приняв свою графоманию за откровения гения, — Тит сердито сопит и смотрит на друга.
Раф выпрямляется в кресле. Глаза его вдохновенно горят.
— Надо писать легко, чтобы для тебя это было таким же обычным делом, как естественные отправления, как дыхание, как желание женщины, как потребность в покладистом и веселом друге, как… как пьянка, как смерть, наконец! Надо довериться языку, отдаться ему, раствориться в нём. А мы всё пытались подчинить себе язык, подмять его, поставить себе на службу, по-толстовски анатомировать его. Вся русская литература двадцатого века утонула в философском болоте Льва Николаевича, ни разу не усомнившись в правильности его воззрений.
— Кроме Андрея Платонова…
— Это исключение, которое только подтверждает сказанное… Мы все поклонялись гению Толстого, а надо было следовать, идти, ползти за Достоевским, который единственный понял, что, только доверившись языку, можно приоткрыть завесу над истиной…
— Графоманы тоже доверяются языку, и ты посмотри, что они вытворяют…
— Помолчи, ядовитый змей! Графоманы доверяются не языку вообще, а только своему персональному языку.
Раф задумчиво смотрит на Тита и продолжает:
— Русская литература ушла не только от Достоевского… Она ушла в сторону от мирового литературного процесса. И, кроме того, на нее оказали губительное воздействие грандиозные масштабы страшных событий двадцатого века. Революция и страшная война отвлекли русскую литературу от эволюционных творческих процессов, которые спокойно протекали в правильном западном мире. Я не говорю, что потрясения и войны обошли Запад стороной. Но наша литература с военной тематикой явно переборщила. Если окинуть взором всё, что у нас написано за последние восемьдесят лет, то мы увидим бескрайние поля сражений, кровь, виселицы, концентрационные лагеря, разрушенные города, подбитые танки, пикирующие бомбардировщики, пушки, изрыгающие огонь и трупы, трупы, трупы… Я бы никого за это не осуждал, если бы многие писатели на теме войны не паразитировали… Все бросились писать о великой войне, причем больше всех писали те, кто войны и в глаза не видел, а на западе искусство тем временем уходило вперед…
— Понимаю, — кротко замечает Тит, — настоящий писатель должен самостоятельно совершенствоваться, то есть, заложив уши ватой, каждодневно в одиночку прорываться к высотам творчества. Для этого ему надо удобно устроиться у раскрытого окна, обращенного в черноту ночного небосвода, и приступить к созерцанию луны и звезд. При этом автор должен сосредоточиться на мыслях о вечном, подсознательном, иррациональном, о трансцендентальной апперцепции, о неясных томлениях мятежного духа, об амбивалентности всего сущего, о бесконечности времени, о неисчерпаемых и загадочных свойствах языка. И только тогда он научится выпекать штучные шедевры…
— Совершенно верно! — приподнятым тоном произносит Раф, — и этим писателем буду я. Я буду печь шедевры, а ты будешь меня материально поддерживать.
— Очень нужно! Меня самого надо поддерживать. Кстати, давно хотел тебя спросить, когда ты первый и, надеюсь, последний раз прочитал "Улисса"? Когда ты до него, так сказать, добрался? Когда добил?..
— Недавно… Между нами, я этого чертова "Улисса" читал почти два года. Начал, естественно, с комментариев, которые составляют львиную долю книги. Потом по полстраницы в день. И так каждый день. Упорный труд…
На Рафа вдруг нападает смех. Тит вторит ему. Оба хохочут, тыча друг в друга пальцами, минут пять.
— Да… — Раф кулаком вытирает слезы, — умыл ты меня, братец.
Глава 6
Тит вздыхает, ставит стакан на стол, встает и подходит к окну. Барабаня костяшками пальцев по стеклу, он тихо говорит:
— Я давным-давно, еще в детстве, понял, что я особенный. Не такой, как другие…
Раф пожимает плечами и, искоса поглядывая на друга, произносит:
— Так думает о себе почти каждый…
Но Тит не слышит.
— Прожита жизнь, — говорит он. — А зачем?.. Зачем жил, так и не понял. А, оказывается, ответы есть. И отсчет надо вести, начиная с великих. Вот Пушкин, например, умер молодым, а он знал, зачем жил… И Лев Николаевич знал, хотя твердил, что не знает. Вообще, по нынешним понятиям, Толстой был презабавный старикашка, загадочный, непонятный, чуждый современным представлениям о поведенческой логике… Как же, успешный, состоявшийся литератор, невероятно богатый, обласканный мировой славой, при жизни признанный чуть ли не дельфийским оракулом, отказывавшийся даже обсуждать вопрос о присуждении ему Нобелевской премии, вдруг под занавес начинает терзать себя детскими вопросами…
— Эх, задал бы он их в свое время Достоевскому, тот бы ему ответил! Кстати, толстовское презрение к премиям — уж не гордыня ли это? А это его морализаторство…