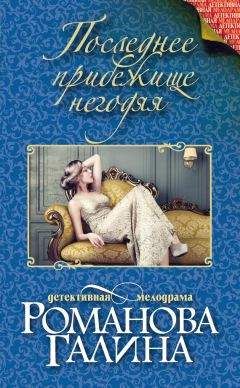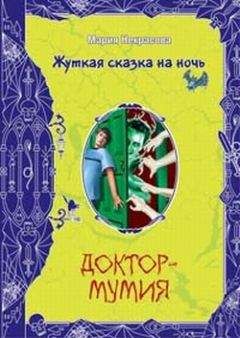Хосе-Мария Гельбенсу - Вес в этом мире
Конечно. Это не одно и то же.
Такое случается, в жизни всегда случаются такие вещи. Вот и сейчас случилось. Вот такой расклад..
Да уж… проблема.
Что ты сказал?
Ничего. Проблема, говорю. Или дело не в этом?
Что? Ты не можешь задавать вопросы ясно и понятно? Тебе всегда нужно интересничать?
Ладно, рассказывай.
Ты даже не интересничаешь — ты не снисходишь до того, чтобы задавать вопросы, а если уж задаешь, то так, что я вынуждена рассказывать тебе все, хотя ты и не просишь. Честно говоря, не нравится мне эта твоя манера. По-моему, единственное, чем она продиктована, — это высокомерием, хотя не понимаю, почему. Почему ты ведешь себя так? Зачем тебе это? Может, вопросы кажутся тебе проявлением слабости, унизительной болтовней или чем-то еще в том же роде?
Они кажутся мне проявлением корректности, вот и все, так что незачем волноваться. Я спрошу прямо и ясно: какая у тебя была проблема?
Проблема… мне трудно говорить о ней.
Тогда оставим.
Нет-нет… Нет. Погоди. Лучше уж я расскажу. Просто это связано с тяжкими воспоминаниями — со смертью. Это самое горькое, что мне пришлось пережить.
Да.
На самом деле я рожала трижды, но первый ребенок… его нет. Это был мальчик. Он умер через месяц после рождения. Думаю, ты ничего не знал.
Не знал. Ничего. Ты не представляешь себе, как мне жаль.
Вот так все случилось. И эта боль не утихла до сих пор. Мне стало очень больно сейчас, когда я об этом заговорила. Когда вспоминаю, конечно, уже не так тяжело. Но вот сейчас, когда я представила себе, что нужно будет снова говорить об этом… Прости.
Не надо ничего рассказывать. Не надо. Забудь об этом.
Нет, нет, надо. Позволь мне рассказать, неважно, что мне будет больно, потому что это нужно. В конце концов, ты же знаешь, что такое раны.
Иногда раны заживают.
Иногда — да. Я думала, что и моя зажила. Меня совершенно выбивает из колеи такая боль — я имею в виду, воспоминание о боли. А ты, наверное, не думал, что я такая неженка, правда?
Я? Откуда мне знать? Ведь я даже не знаю, что ты чувствуешь, я могу только представить себе это.
Да, правда, прости, я просто сама не знаю, где моя голова.
На плечах. И выглядит вполне нормально.
Юморист.
Это было связано со смертью, понимаешь, — с тем, что стирает все. Если ты исчезаешь, мир остается, продолжает быть — для других; но тебе-то какое дело, что он существует для других? Знаю, это пошло, но от этого содрогаешься, как от мысли о том, что можешь умереть. Мир есть то, что ты воспринимаешь, верно? Он существует постольку, поскольку существуешь ты; и вдруг — раз! — тебя не стало, и не стало мира. Всякий раз, когда кто-то умирает, перестает существовать мир. Мертвому-то уже все равно, но мы, все остальные, способны представить себе это: умереть — значит перестать ощущать. Что происходит, когда до тебя дойдет, что умереть означает, что все останется жить, а ты сам исчезнешь, словно провалишься в какую-то черную сточную трубу? Только поняв, что умираешь вот так, испытываешь ужас оттого, что перестанешь воспринимать мир. Честно говоря, я не знаю, зачем вообще от этом думают… чтобы пострадать? Чтобы испытать страх? А кроме того, даже если ты полное дерьмо, для себя самого ты есть все то, что существует. Как говорится, в сортире никому не противно собственное дерьмо. В конце концов ты понимаешь, что тебе, сидящему в своем любимом непрочном сортире, страшно умереть, потому что ты жив; только живые боятся смерти, даже сидя в сортире со спущенными ниже колен трусами. Как глупо, правда?
Не так уж и глупо, хотя подобное видение смерти кажется мне весьма экзистенциалистским. Оно как-то не вяжется с тобой. Но ты рассказывала о своем умершем сыне.
Да. Бедненький. К счастью, у меня не было случая задуматься об этих вещах. Сейчас меня уже почти не затрагивает мысль о собственном исчезновении. Прежде — да, но теперь мне не страшно. Я испытываю что-то другое, но не страх. Это был ужасный, жестокий опыт.
А о чем ты думала тогда?
Что во мне что-то умерло. Я не проводила философских исследований, ничего такого. Но во мне что-то умерло и так и осталось там, внутри меня. Хочу я этого или нет, оно во мне, я несу его в себе, как балласт.
То, что ты потеряла.
Нет. То, что есть у меня, во мне. Мертвое. Видишь, какая странная ситуация? С тех пор я ношу в себе смерть, некую мертвую тяжесть, мертвый кусок жизни, подобно какому-то отмершему, бесполезному, высохшему органу. Вот здесь, внутри.
Да, это хороший образ.
Нет. Это не образ. Это реальность. Это так. Я ношу это внутри. Я не потеряла это, оно не в памяти, и это не образ… Ты не понимаешь. Нет. Ты не можешь понять, до меня только сейчас это дошло. Он был еще слишком мал, чтобы умереть самому, поэтому я ношу ее в себе — его смерть. Не надо думать ни о чем странном, о соматическом воспоминании или о чем-то подобном. Это так же реально, как то, что я живу.
Кажется, я знаю, что ты имеешь в виду.
Нет. Конечно же, нет. Но все равно я тебе очень благодарна. Просто есть вещи очень личные.
Мне его не следовало видеть. Если бы сейчас мне сказали, что у ребенка практически нет возможности выжить, я не захотела бы видеть его. Впрочем, вру. Конечно, захотела бы. Нет, и это неправда. Я просто не смогла бы не видеть его. Понимаешь? Даже если бы он дышал всего несколько секунд, я посмотрела бы на него, взяла бы на руки, поцеловала. Даже если бы это принесло мне только отчаяние и слезы, я обняла бы его, и поцеловала бы, и он был бы со мной до тех пор, пока его бы у меня не отняли. Даже если бы он родился мертвым, я взяла бы его на руки и качала бы. Бедный малыш, я плачу, как полная дура.
Ты плачешь о себе.
Да, это правда. Я плачу о себе. Он не может заплакать о своей потерянной жизни, а я плачу потому, что потеряла его. Может, в этом и весь секрет: в том, что мертвые никогда не плачут о себе. Плачут остальные — те, кто измеряет их отсутствие, кто получает завет этой смерти.
На самом деле именно они понимают значение этой смерти. Для умершего, будь он ребенком или стариком, собственная смерть не обладает значением, а для остальных — да. Смерть, когда она приходит, всегда является таковой для тех, кто остался жить, а не для того, кто умирает. В этом смысле мир сильно ухудшился. Теперь больше никто не прибывает с монетой во рту на берег, где поджидает Харон: угасание происходит само в себе, без всякой красоты, без всякой переправы через Ахерон. И никто не стучится в небесные врата, чтобы представиться святому Петру, — нет, угасание происходит быстро, как этот современный метод исчезновения, именуемый кремацией, который пользуется таким успехом по наименее благородной из всех возможных причин: по причине удобства для родственников. Хотя, возможно, не следует упускать из виду и собственное желание некоторых покойников не отягощать этих родственников еще более: своего рода посмертная любезность. Но я забрел туда, куда не следовало, и ты до сих пор плачешь, мне нет прощения.
Да. Смотри, я больше не плачу.
Я смотрел на тебя и видел, что ты плачешь очень медленно, как будто слезы приходят издалека и добираются до глаз, уже устав. Ты плакала сильно и очень горестно.
Ты сказал с большим чувством, спасибо. Ну, ладно, все. Я хотела рассказать тебе о другом. Нет. Рассказать о том, что связано с этой смертью, но не так. Однако тут все имеет значение, потому что я хотела сказать, что вместе с ребенком умерла какая-то часть меня самой, и я ношу это в себе, оно не вышло наружу, как ребенок, оно умерло не вне, а внутри меня и не выйдет наружу никогда. Это что-то мертвое, и оно — часть меня. Оно не болит, не беспокоит, но оно там, внутри, я чувствую его, потому что иногда оно появляется, — знаешь, как делаешь вдруг какой-нибудь частью тела резкое движение и ощущаешь старую боль от забытой раны, вспоминаешь, где она была, и думаешь: она зажила, но она была здесь. Что-то в этом роде.
Или не зажила, но не беспокоит.
Да. О ней не всегда помнишь, но она здесь — ты это хочешь сказать, верно?
Это как с памятью. Ее не ощущаешь постоянно, но она всегда приходит, если ее разбудить — неважно, вольно или невольно.
Нет, нет. Это совсем не как с памятью, и эта смерть отнюдь не затихла в каком-то ее уголке. Вот видишь, ты не понимаешь. В общем, я хотела сказать, что тогда, ну, когда мой сын умер, когда он выскользнул из моих рук, а мне не было дано времени, чтобы любить и защищать его, моя душа тоже ушла. Я несколько дней жила без души, это совершенно невероятное ощущение.
Несколько дней?
Да, несколько… четыре, пять, может, шесть, но не больше. Продлись это больше, я бы умерла. Невозможно дольше жить без души. На самом деле я и так долго продержалась, это было что-то нечеловеческое.
Где же ты находилась в этот отрезок времени? Между небом и землей?
Как феи? Не смеши меня. Вижу, ты абсолютно не веришь мне. Ну, ладно. Зачем тогда рассказывать тебе все эти вещи. Я кажусь тебе спиритисткой, или эзотеричкой, или еще чем-нибудь подобным? Когда душа уходит, тело чувствует себя ужасно. Пока душа отсутствует, оно живет только рефлексами, поэтому это ужасно, больно даже дышать. Моя душа ушла вместе с ребенком, проводила его и вернулась. А пока ее не было, я оставалась в таком горе, сухости и пустоте, в такой крайней степени одиночества, какой ты даже не можешь себе представить, какой больше нет в мире. Когда тебя покидает душа, все желания исчезают, а действия, влажность, свет, тепло… они теряют смысл. Все желания, кроме одного: чтобы душа вернулась, вернулась как можно скорее. Так бывает, когда переживаешь смерть.