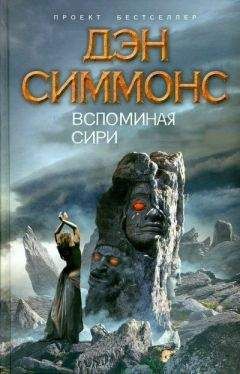Сири Хустведт - Печали американца
Когда я поднимался по лестнице, какая-то незнакомая женщина захлопывала за собой дверь Ингиной квартиры. Потом она повернулась, сгорбленная, с ржаво-рыжими волосами, и, глядя себе под ноги, медленно побрела вниз по ступенькам. Когда мы почти поравнялись, она вдруг подняла голову и на какую-то долю секунды задержала на мне взгляд. Я чуть прижался к стене, чтобы пропустить ее, но она даже не посторонилась и шла прямо на меня, так что разойтись нам не удалось.
— Прошу прощения, — пробормотал я, прекрасно, впрочем, сознавая, что не сделал ничего, за что следовало бы извиняться.
Незнакомка резко дернула головой, пристально посмотрела мне в глаза и, застыв на миг, ухмыльнулась. Это была именно ухмылка, мрачноватая, эдакая неудобоваримая смесь самодовольства и сконфуженности. Так мальчишка с упоением пинает собаку, но, будучи пойманным, прекрасно понимает, за что его ругают. Женщина не сказала ни слова, просто прошла мимо, почти задев меня плечом, но это выражение засело где-то в голове и саднило, как прищемленный палец, который все не проходит.
— Это кто еще такая? — спросил я с порога, вместо того чтобы поздороваться.
Тут я заметил, что Инга сама не своя: в лице ни кровинки и голос предательски дрожит.
— Журналистка, — ответила она, — корреспондент журнала «Подноготная Готэм-сити».
— Ты давала интервью по поводу своей книги?
Инга кивнула:
— По крайней мере, я так думала. Мы договаривались об интервью по поводу моих книг. Я даже полистала «Очерки об образе» и «Культурную тошноту», чтобы освежить все в памяти. Нет, наверное, Дороти просто обманули. Издательство же обязано защищать авторов от аморальных посягательств. А редактор журнала ее обманул. Первые полчаса я просто не понимала, что ей от меня нужно, но она переводила разговор на Макса, и все какими-то намеками, намеками…
— Намеками на что?
Инга скривилась:
— Давай сядем. Мне что-то нехорошо.
— Да у тебя же руки дрожат!
Инга сцепила руки перед собой.
Мы сели на диван.
— Так что она тебе сказала?
— Ничего особенного. Просто этот мерзкий запах…
— Запах?! — недоуменно переспросил я.
Инга выпрямила спину и глубоко вздохнула:
— Не притворяйся, ты же все понимаешь. Эту женщину абсолютно не интересует ни то, что я думаю, ни то, что пишу. Ей нужны жареные факты о нашей с Максом жизни, а я отказалась об этом говорить. Знаешь, что она мне сказала? «Считаю своим долгом сообщить вам, что про вас все равно говорят, так что было бы куда разумнее не отмалчиваться, а сделать официальное заявление для прессы». Ей заказали материал для журнала, наверняка одну из тех грязных статеек, прочитав которые хочется немедленно вымыться с мылом.
Инга сжала вздрагивающими пальцами виски.
— Ты чего-то боишься?
— Я любила Макса, любила всем сердцем. У него и в мыслях не было бросить меня.
Я видел, что Инга мучительно подбирает слова. Потом она подняла на меня распахнутые серьезные глаза:
— Дело в том, что Макс был человеком очень тонким, обостренно чувствительным и не очень устойчивым. Он мог швыряться вещами, такое пару раз бывало. Мог рычать, как лев, когда злился. Порой с ним было невозможно разговаривать, потому что он никого к себе не подпускал. Но она произнесла слова «физически агрессивный». «Физическая агрессия» — это что, эвфемизм для «избиения жены», полагаю? Отвечать на такое невозможно, потому что со стороны кажется, что ты оправдываешься, так что деваться некуда, и остается одно — молчать. Потом она заговорила о виски, глумливо так поинтересовалась, какую он предпочитал марку. Вытащила откуда-то историю о его стычке с этим отвратительным критиком, которому Макс дал по морде на банкете ПЕН-клуба. Да, Макс пил, но всю жизнь, пока хватало сил, он работал до изнеможения, буквально до последнего своего часа. Даже в больнице он делал какие-то записи. Сколько я его помню, он каждое утро вставал и садился работать. Разница только в том, что, когда мы познакомились, в нем не было этой тоски. Он тогда так жадно всем интересовался, но с возрастом тоска накатывала все сильнее. Он очень страдал после смерти матери, и я страдала вместе с ним. Макс был самым близким моим другом, но это не значит, что я знала о нем абсолютно все. Да, честно говоря, я и не очень хотела. Эта жуткая особа наверняка доберется до Адрианы и Роберты, они же, каждая, были за ним по три года замужем. Адриана зря болтать не станет, а вот Роберта конечно же с наслаждением смешает Макса с дерьмом. И одному богу известно, сколько эта особа накопает его любовниц или девиц на одну ночь. Кто-то из них все еще его любит, кто-то всей душой ненавидит, а она будет все это слушать. И будет слушать завистливую трепотню какого-нибудь третьесортного писаки и иже с ним, а потом состряпает материальчик, где все будет тютелька в тютельку, где цитаточки приведены дословно и все до тонкостей расписано и преподнесено как чистая правда. Именно так и будет, я знаю, как делаются такие вещи. В ней была такая мерзость и беспардонность, что меня чуть не вырвало. Как будто я выпачкалась в чем-то. И мне стало очень страшно.
— Почему?
— Мне показалось, что она что-то знает про… — Инга сглотнула. — Она помянула Соню, и как-то очень… неприятно. Дескать, не странно ли, столько женщин, и всего один ребенок, мне это…
— Мам, — раздался голос Сони, которая, как оказалось, стояла в дверях, — а кто про меня говорил?
— Одна журналистка. Ужасно неприятная.
— Она рыжая?
— А ты откуда знаешь? — спросили мы хором.
Соня переступила с ноги на ногу.
— Мы с ребятами были в Поэтическом клубе на Бауэри, там она ко мне и прицепилась. Вы, говорит, дочь Макса Блауштайна, ну, и понеслось. Я сначала пыталась от нее как-нибудь повежливее отвязаться, но она лезет и лезет. Я, в конце концов, разозлилась, ну, и послала ее.
Я расхохотался. Соня улыбнулась, а Инга сокрушенно покачала головой:
— В таких случаях говори, пожалуйста, что тебе по этому поводу сказать нечего.
Я не понимаю, почему Сонин образ в тот день так глубоко врезался мне в память. На ней были мешковатые спортивные штаны и застиранная футболка с надписью на груди. Надпись я вспомнить не могу, а вот облик не забуду. Моей племяннице едва исполнилось восемнадцать, и хороша она была необыкновенно: темноокая, с тонкими чертами лица, с длинным и гибким телом. Она была похожа разом и на отца и на мать, но в тот вечер я узнавал в ней только Макса. Боже, как же мне его недоставало! Боже, что это был за писатель! В своих книгах ему удавалось разворошить преисподнюю и облечь весь этот саднящий ад человеческой жизни в слова, которые понятны любому. Но Инга была права. Тоска накатывала на него все сильнее, и спал он все хуже и хуже. Помню, я однажды осторожно заикнулся о психотерапевте или аналитике, можно же попробовать, хотя бы из интереса, а если ничего не получится, то просто попить какой-нибудь антидепрессант, но только не искать средство от упадка духа на дне бутылки. Макс тогда притянул меня к себе и похлопал по плечу.
— Эрик, дружище, — сказал он, — я знаю, ты желаешь мне добра, но я должен сказать тебе одну вещь. У меня внутри, это если ты вдруг не заметил, что маловероятно, поскольку ты такими вещами на жизнь зарабатываешь, так вот, у меня внутри запущен механизм саморазрушения. Таким, как я, ничто не поможет. Такой уж я псих и урод, и ковылять мне так до последней черты, с зажатым в руке пером.
В ту ночь мне приснилось, что я иду вслед за Ингой по длинному коридору. Мы ищем Соню, запертую в одной из комнат. Инга почему-то хромает, и на голове у нее рыжий парик, на который я не могу смотреть спокойно. Я кричу: «Соня! Соня!», подхожу к какой-то двери, открываю ее и зажмуриваюсь от вспыхнувшего навстречу света, но, открыв глаза, вижу не Соню, а Сару, мою пациентку, покончившую с собой в 1992 году.
— Сара, — говорю я растерянно, — как это вы здесь…
Она скользит ко мне, раскинув руки, словно хочет обнять, глаза огромные.
— Доктор Давидсен! — слышу я ее надсадный вибрирующий голос. — Доктор Давидсен, я вижу!
Я рывком проснулся. Мне понадобилось время, чтобы унять сердцебиение. Потом я встал, пошел вниз, на кухню, налил себе стакан молока, поставил диск Чарли Паркера, сел в зеленое кресло и слушал до тех пор, пока не почувствовал, что могу вернуться в постель.
Во втором семестре, согласно программе по английскому языку, учащихся ожидало суровое испытание в виде написания реферата. Я уже и сам не помню, почему решил писать про Савонаролу, итальянского реформатора и мученика, добившегося изгнания Медичи из Флоренции. С тем, что касалось собственно темы, все шло гладко, но вот механизм исследования — все эти бесконечные карточки, каждую из которых полагалось заполнять строго определенным образом и никак иначе, поскольку у каждой была своя функция, — совершенно сбил меня с толку. Еще большую оторопь вызывали подстрочные ссылки с их загадочными «Указ. соч.» или «Цит. соч.». Мою комнату заполонили груды рассортированных по темам карточек. Чтобы дать себе хоть какую-то передышку от этого умственного хаоса, я решил сходить на почту за письмами. Распечатав конверт прямо в почтовом отделении, я прочитал, что 16 марта, то есть за два дня до срока сдачи реферата, мне предписано явиться в Форт Спеллинг.[12] Вернувшись к себе, я сгреб все эти несчастные карточки и отправил их в мусорное ведро. Ночью, в постели, меня охватила паника: а если я не пройду медкомиссию, что тогда?