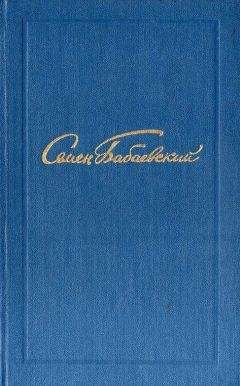Линор Горалик - Половина неба
В понедельник нам читают список победителей, он начинается с моего имени. Это значит, что меня ждет областная олимпиада, а потом республиканская — всесоюзных для таких маленьких, как мы, не устраивают. Но на перемене мне и Полушкину, номеру два, почему-то не смекнувшему, как выяснилось, про одиннадцать по десять, велят остаться в классе, и полный высокий мужчина со странным женским лицом объясняет нам, что мы удостоены великой чести: нас берет к себе знаменитый интернат для одаренных детей. Считать атомы, грызть гранит науки, выше вздымать знамя нашей Родины. Полушкин дергает губой и сипло дышит, — все-таки яблоко от яблони, брат от брата, и это, конечно, не колония, но в той или иной мере. А меня заливает бешеной волной, у меня дрожит голос, когда я диктую домашний телефон и имена-отчества родителей, с которыми теперь «свяжутся и сообщат», и вылетаю в коридор, где Маша стоит у окна и наматывает резиночку с двумя шариками на палец, все туже и туже, пока палец не багровеет, и она разматывает ее со стоном, и я понимаю, что совершенно забыл про нее, что ей оставаться здесь, а мне отбывать в полное свершений будущее юного гения, — тут нужно остановиться.
Потому что впервые в жизни у меня во рту появляется кисло-горький вкус, которой сегодня я умею опознавать и которому все реже удается застать меня врасплох. Кислое — это вкус запланированной разлуки, застоявшегося и створожившегося настоящего, которое хочется сплюнуть, чтобы после прополоскать рот свежим, пузырящимся, сладким будущим. А горькое — это оскомина, набитая предшествующими разлуке незапланированными обстоятельствами, тем поворотом событий, после которого наши планы начинают оформляться все чётче и чётче, — и вот один уже вылетает из классной комнаты, не замечая, что рубашка выбилась из брюк, а портфель расстегнут и грозит просыпаться цветными карандашами, и другая виток за витком наматывает на палец резиночку для волос, шарики поблескивают дешевыми перламутровыми разводами, она смотрит на его лоб, на мелкие капли мальчишеского пота, а он кричит:
— Меня взяли в интернат!
А она говорит:
— Ну и подавись своим интернатом! — и он догоняет ее только у раздевалки, он в ярости, она должна была прыгать и скакать вместе с ним, чуть не впервые в жизни нарушая воплями школьную дисциплину, он так зол на неё, что сейчас готов уехать хоть к чертовой матери, лишь бы никогда не видеть этих посеревших от тоски веснушек, но он все равно догоняет ее, и она ждет слов, каких-то слов, таких, которые я сумел бы сказать сейчас, спустя все эти годы, но ему было одиннадцать лет, и он схватил ее за руку и сказал:
— Дай двушку!
Она не вырвалась, но несколько секунд молчала, а потом холодно сказала:
— У меня нет.
— А десять копеек?
— Тоже нет, — и он рванулся к кому-то еще, но или не было ни у кого, или не хотели давать, и он помчался через улицу к телефону-автомату, надеясь выпросить монетку у прохожих и, наконец, осчастливить родителей сообщением, что их сын оказался избранным среди избранных, надеждой страны, — уже в вестибюле услышал за спиной топот и «Подожди!». Маша схватила его за рюкзак, едва не упала на скользком кафеле, протянула три монетки, а дальше они бежали вместе, и она держала его за руку, когда он дозванивался до коммутатора в мамином НИИ, и когда он выпалил маме благую весть, и потом, когда он менялся в лице, а мама в трубке кричала, что он сошел с ума и может забыть эти глупости навсегда, рехнулся, какой интернат, она сейчас позвонит в школу, и вообще немедленно домой, с ума сошел, он что думает, они с папой отпустят ребенка в интернат, он вообще представляет себе, что говорит? Маша отпустила его руку, только когда они вышли из телефонной будки, на асфальт со звоном упали две монетки — гривенник и бесполезный алтын, Маша посмотрела на свою ладонь, а он на свою, — на каждой отпечатались два ровных круга, один побольше, другой поменьше, и контуры их постепенно розовели и таяли, как таяла перспектива запланированного расставания, как таял кислый и горький вкус у меня во рту.
Все гривенники и пятаки моих дней, все, до единого.
Северная Атлантика, 10.220 м над уровнем моря
— Look, Steve, this is a blend. — Стив с любопытством заглядывает в объектив. — Do you know, what blend is for?
— No.
— Okay. Can you see what is written there on the stewardess’s badge?
— No.
— Now narrow your lids and look again.
— A — I — R — F — R — A — N — C — E. It’s Air France!
— Okay. Now, lens no eyelids…
— And blend is like an eyelid, right?
— Absolutely. When I narrow it, a large piece of image is in focus. For example from here to the end of the plane. And when it’s wide open, only our walrus man is.
— Cool! And what about my camera? — Он посмотрел на свою кодаковскую мыльницу, — точно такую я подарил Андрею на прошлый Новый Год: все его фотографии имели что-то общее. Я не сразу сообразил, что именно, — на них было много пустого пространства сверху. Я долго объяснял ему, что нужно стараться, чтобы те, кого он снимает, были в центре, а потом вдруг сообразил, что на фотографиях были, в основном, взрослые, сильно выше его, и оставил ребёнка в покое. Это проблема не с чувством композиции, — думал я, — это такая проблема, которая с возрастом проходит, — думал, глядя на карандашные отметки у двери в его комнату, — проходит, проходит, это вообще не проблема, когда на фотографиях много неба, чего это я вообще, чего?
— Oh, you can't change blend here.
— And what can I change?
— Actually nothing. Such cameras do everything themselves.
— I don’t want it to do everything itself! I want to be a real photographer.
— Okay, you will be. Some day. But now you have to just train with this one.
Джози бросает на меня благодарный взгляд.
Мингалазеди, Баган, Мьянма
Здравствуй.
Птиц не видать, но они слышны. Пять утра, почти прохладно, и мне видно все. То есть буквально все — ну, почти все, почти все храмы Багана, сколько их, больше двух тысяч, потому что это самая высокая площадка, я пришел фотографировать, потом будет плохой свет, яркий, а сейчас все в каком-то прозрачном молоке, в нем облака плавают, как размокший корнфлекс. Как хорошо, всё-таки, что я выкроил себе эти две недели в Бирме за казённые деньги. С другой стороны, они сами виноваты. Дисциплинированность малайзийских властей оказалась выше всяких похвал. Я думал, они мне до второго пришествия будут разрешение на съёмки делать — а нет. Сто долларов — и вот мы уже на месте, бумаги выправлены, заправлены в планшеты космические карты.
Кто бы мог что подумать — в пять утра тут не только я, но еще и две девочки, лет по семнадцать, из той породы, которую один таксист в Москве назвал «сявочками». Говорит, сели на заднем сидении и целуются, такие, понимаешь, еще совсем сявочки, а ведут себя, как последние бляди, им наплевать, что тут человек машину ведет, смотрит в зеркало заднего вида. Сявочки такие: чирикают по-английски, одна совсем как из манга, желтенькая, пухлые губы и полукруглые глаза, и двигается она, знаешь, прыжочками, как воробей. А вторая розоватая и толстенькая, смотрит на первую влюбленными глазами, из тех подружек, которые будут полгода ходить следом и рыдать в подушку, когда у первой появится, наконец, мальчик, стоять под окнами, и вести себя неприлично, пока быстро тающий подростковый такт не закончится у первой совсем, она не выдержит, сорвется: «оставь меня в покое, отъебись». Но вот пока желтенькая смеется, розовенькая счастлива, что они делают тут в пять утра? — желтенькой, видно, захотелось поиграть в фотографа, кто рано встает, тому бог свет дает. Фотографируют они простенькой цифровой Минолтой, у меня такая в сумке, примеряться. Увидели мою камеру, жались и улыбались, потом попросили меня их сфотографировать — я согласился и, пока пытался построить кадр, испытал неловкость за выдвигающийся при взгляде на них объектив. Потом они попросили меня снять их при помощи их собственной мыльницы, и у меня сразу испортилось настроение.
Это поразительное дело, но я не могу снимать людей. Нет, могу, конечно — вот вчера я снимал монахов у Ананда Пахто, плотная толпа, коричневые бритые головы и оранжевая ткань, среди всего этого поблескивают очки, праздник полной луны или что-то в этом роде, не помню, редактор пусть следит. Но они для меня были, как бы сказать — не вполне люди. То есть люди, но объекты, non-persons, такие явления, вроде обезьянок и этих чудовищных Будд, в буквальном смысле слова — лежебоких. А двух сявочек, или застолье, скажем, или свадьбу в белом — это я не могу, ну не могу, не поднимается рука. Я тебе больше того скажу: я и смотреть на эти фотографии не могу, не умею. У меня поэтому дурная слава среди коллег — я редко хожу на выставки, если не пейзаж или не вот как у меня, ну или уж постановочная, которую я совсем терпеть не могу. Но только не люди, ради всего святого. Хотя профессиональное фото еще куда ни шло, оно часто так устроено, как у меня с монахами, а вот любительское — никак.
Помню, рассказывала девушка Алёна, моя бывшая сотрудница, нынче переползшая в «Гео» — «пришла к товарищу тут домой, а Леша мой с ним в один садик ходил, их развело как-то, а потом они опять попали в одну компанию — ну, двенадцать, ну, тринадцать лет назад, молодые все были, а этот Саня всегда с фотиком ходил. И он мне говорит: о, давай я тебе покажу Лешкину фотографию в пять лет! Ну давай, — говорю. И он мне показывает. Ты понимаешь, — говорит Алёна, — я смотрю на нее и чувствую, что я сейчас заплачу. Не потому, что он там хорошенький, или маленький, или еще что-нибудь, а потому что я его вижу — в смысле, нынешнего, вот мужчину, которого я люблю, я в этом мальчике вижу. И мало того, я смотрю и понимаю, что я и наоборот, в Лешке, всегда видела этого ребенка, вот этого самого, я с ним не знакомлюсь сейчас по фотографии, с этим зайчиком маленьким — я его узнаю. Смотрю на него, а у меня начинают слезы литься, и Сашка так меня начинает теребить и говорит: Алён, ты чего, ты чего? А я просто стою и понимаю, что это вот этот пятилетний Лешенька — это мой ребенок, а я его мама, что это единственный ребенок, который у меня есть.