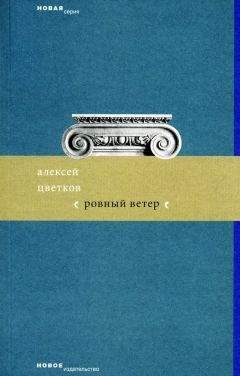Вера Галактионова - Спящие от печали (сборник)
Порхает дрёма белой летней бабочкой на самой вершине тёмного сна – и не даёт старику забыться так, чтобы не чувствовать боли. Почтенный Жорес хочет расспросить умершего брата получше – старятся ли молодые кости в земле и ноют ли, как сейчас у него? Или ранняя геройская гибель избавляет от болезней человека так же счастливо, как от дальнейших испытаний судьбы? Только молодой брат со своей неразорвавшейся гранатой в руке может уйти из барака в любой миг. И потому старый Жорес торопится сказать ему про другое – главное:
– …После смерти Горького боевая курица сразу отселила меня в этот барак и обещала присматривать. Но сюда приходят лишь её дети – два моих внука, один из которых – широкоплечий бандит с чугунной головой, а другой – узкогрудый курильщик маньчжурской дурной травы. И оба ждут моей смерти… Марат, не отворачивайся от меня! Куда ты спешишь? Пусть твой Мамаев курган подождёт немного. Выслушай, прошу! Внуки приходят не только потому, что им не терпится присвоить себе эту комнату. Они ещё хотят занять здесь и другие – те, в которых ютятся живые люди… Как это страшно, когда жильём людей можно торговать! Нынче достаточно выкинуть человека из своего угла, чтобы получить за это много денег. А деньги внуки мои ценят превыше всего, потому что новый строй поставил превыше всего остального – деньги…
Слышишь, Марат? Взял бы ты меня с собой в свой безденежный курган, в надёжный непробудный сон и неизбывный победный покой, – пытается привстать на своей постели старик. – Они, мутноглазые внуки, мечтают о гаремах с белыми невольницами и о таких скверных удовольствиях, про которые мы не знали! Новое время заразило их развратным бездельем, они не хотят ничего иного. И они уже почувствовали вкус присвоения чужого – скота, жилья, женщины. Теперь их не остановить вовеки, хватающих чужое горе как лакомство.
Но брат почтенного словно истаивает во тьме.
– Куда же ты спешишь? Или ты не хочешь даже слышать о них, опозоривших наш род навсегда? Почему ты, Марат, уходишь со своей неразорвавшейся гранатой, один?.. И кому же я расскажу теперь про то, что здесь творится?!.
От ломоты в коленях, пояснице и локтях слишком медленно поворачивается старый Жорес, но тянет руку и пытается вскочить с кровати, во что бы то ни стало.
– Слышишь? – кричит он брату. – Не уходи! Или прежде оставь гранату мне! Не случайно же ты крепко держал её долгие десятилетия в мёртвой своей руке…
Ничего уже не видно старику в кромешной темноте, кроме белой бабочки, мельтешащей, порхающей, вьющейся. Но мёртвый брат его, кажется, ещё здесь.
– Сколько можно лежать ей без всякого толка в сталинградской военной земле? – кричит старик про гранату. – Она не взорвалась в той защите Отечества? Разожми свою мёртвую руку, Марат! Пускай она взорвётся – в этой, сейчас! Взорвётся – и разнесёт в клочья, и сожжёт наш позор дотла…
* * *Слово «позор» в эту ночь очнулось в Столбцах. Оно стало таким подвижным, что перелетало из одного сна в другой, мучая спящих. И лежащая под колючими венками Нюрочка старается не слышать привычных упрёков справедливого своего свёкра, долетающих из минувших дней:
– Позор!.. Эх, вы! Спекулянты вы, а не дети.
Его крик врезался в память её подобьем злой татуировки, которую невозможно вывести из сознания без шрама ни при жизни, ни после смерти:
– Ра-бо-тать на-до!!! Тут деды, прадеды наши – все ра-бо-та-ли. Тру-ди-лись! А вы?..
Но Нюрочкина душа привыкла сгибаться под тяжестью этой правды и сносить её без обиды: что толку от разоблачений, если следовать нравоучениям невозможно? Небо вынужденного греха нависло над всеми в равной мере… И Нюрочка рассуждает дальше, о своём – о самом главном для неё. «Все Бирюковы, Саня, жили в Столбцах всегда, и я могла бы подумать, что ты захотел родиться здесь потому, что здесь оказался Иван – что тебе важно было продлить своим рожденьем их вечное пребыванье на этой земле. А я была только сосудом, только вместилищем для твоего временного пребыванья… Но это не верно. Потому что всё живое на Земле зарождается и движется надземной любовью. Любовь же приходит в мир через боль… А Иван, он очень любит тебя, но с отцами дети не связаны таким количеством боли: ты родился тут из-за меня…»
– Ребёнка завели! – лютует свёкор в своей хмельной правоте. – А сами кто? Рабочий класс? Интеллигенция? Нет: шантрапа вы! Барыги…
Это Нюрочка и Иван – барыги. Но она думает сквозь въевшиеся крики, словно с трудом плывёт поперёк течения – она упрямо думает, думает во сне: «Да, да… Мужчина не сопряжён с ребёнком нужным количеством боли, и крови, и мук. Любовь это боль, много боли… Да, всё верно: ребёнок ещё до рожденья выбирает своей любовью единственную для себя мать и одаривает болью, кого любит. А мать одаривает болью ребёнка, переживающего ужас рожденья, когда кольца мышц, готовые порваться, того и гляди, задушат его. Сильную боль приносит очень сильная любовь. Но она – надмирная и не вполне понимая нами…»
– Молодёжь, называется. Разве мы, Бирюковы, когда-нибудь так жили?!. Эх! Позорники…
* * *Пусть кричит кто угодно и что угодно. Правых много, всех не переслушаешь. Нюрочка, давно притерпевшись к позору, слушает во сне только свои мысли – и во всём соглашается с ними, во своём: «…Нет, Иван тоже любит тебя, Саня. И ты любишь его. Но вы любите друг друга отдельно – у вас никогда не было общего тела и общей боли».
– Говорил же вам сколько раз? Бестолочи! Ра-бо-тать надо!!!
«…И вот, мой Саня, ты родился здесь, в Столбцах, в пору невиданной разрухи. Саженцы тополей приживаются в этой розовой земле очень хорошо и даже вырастают необычайно высокими в два лета. Но к третьей осени, когда смелые, сильные их корни углубляются настолько, что начинают пить урановые воды, молодые тополя с весёлой листвой превращаются в собственные обугленные тени. И век здешних людей тоже короче обычного. Но когда-то мы были Россией. А теперь стали людьми без родины.
– От кого только спекулировать вы научились?.. Загребут вас в один момент с таким заработком, не сегодня – так завтра. И под суд! И правильно сделают… Ладно, давайте ещё стопарь. Отдыхать пойду. Устал воспитывать вас, дураков!
«Смелый мой Саня… Мой маленький, что же ты натворил?! – горюет и горюет Нюрочкина душа в ночи. – Зачем, зачем ты родился – у нас, ничейных людей?.. Зачем, мой единственный, ты родился – здесь?!.»
В эпоху разлома империй нельзя рождаться детям на пограничных окраинах национальных материков.
* * *Вдруг Нюрочкина душа стихает от робости, потому что в эту ночь перелома ей открывается понемногу что-то ещё – совсем иное, потаённое, не осознаваемое прежде… Может быть, России тоже больно – оттого, что они, трое, и все остальные, подобные им, вытолкнуты, как часть её тела, и отторгнуты ею? Исторгнуты, вытолкнуты, выброшены в чужой огромный внешний мир беззащитными и не умеющими дышать чужбиной… Может быть, они – Саня, Иван, Нюрочка – любимы оттого молчаливой тайной настоящей Родиной особенно сильно? И презренье правителей России к ним – к Нюрочке, Сане и Ивану – это только презренье новых правителей к сокровенной самой России?
Россия, родительница! Россия-роженица, насильно вспоротая и наспех зашитая, обескровленная и обедневшая, видны ли тебе в холодной тьме наши страданья?.. В такой холодной, огромной – и не защищающей тьме?
Здесь, в азиатской России, русской Азии, мы дышим тьмой, опасно просторной, и вбираем её зреньем по чуть-чуть – чтобы не понять больше, чем нужно, от чего может зайтись беспомощное, не вполне привыкшее жить без Родины, сердце: в темноте, обступившей нас со всех сторон, затаилось будущее. Грядущее, будто вор – похититель счастья и самой человеческой жизни – выжидает своего часа: но оно – уже здесь.
А пока в огромной остывающей тьме родины-чужбины нужно жить осторожно, и дышать осторожно, и смотреть из-под опущенных век – по чуть-чуть. И молчать – чтобы не взбаламутить, не вспугнуть надвинувшуюся тьму с великими и грозными её смыслами. Лишь бы не заходили они, беспощадные, ходуном, не обрушились бы на тех, кто оказался чужим миру вещей – миру, ушедшему из-под ног…
Никто не поспешит к таким на помощь, никто не склонится над спящими, не позовёт материнским тихим голосом: «Что? Что с вами?» Никто, никогда… И Нюрочка ещё не знает, что чужие миру вещей – теперь чужие повсюду: вне родины – и на родине: они вне жизни…
Она не знает этого – она крепко спит под могильными венками, нависшими над ней.
* * *Комната всеми забытого и вконец одряхлевшего поэта Бухмина в бараке была самой крошечной, но имела отдельный вход, с торца. Размещалась в ней когда-то диспетчерская, в которой сидела кукушкою в тесных часах одна-единственная приятная девушка-латышка с крупными лопатками, похожими на небольшие крепкие крылья. Склонившись, она выписывала путевые листы шофёрам-целинникам, не обращая внимания на шутки ухажёров, на раскрытое своё зеркальце на столе и на солнечные зайчики, бегающие по её заранее разлинованным бумагам своевольно. А корреспондент Бухмин сочинил однажды в газету звонкие стихи о трудовой её старательности, от которой гуще и радостней колосились степные нивы, поскольку на посевную горючее доставлялось без промедленья: зерно снова легло в землю в благодатный срок. Да и сама послевоенная огромная страна оживала стремительно, и каждая отдельная добросовестная судьба, переплетаясь с другими такими же, питала собою единое древо – народный крепнущий организм.