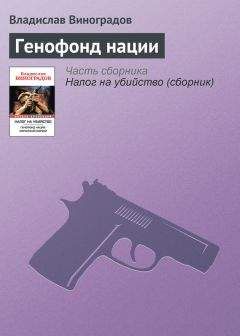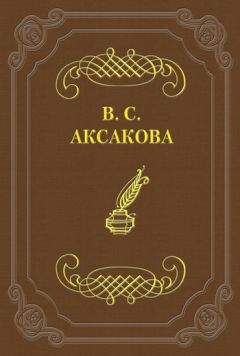Макс Нарышкин - Privatизерша
— Арт, — она положила холодную, как лед, ладонь на его руку, — скажи… милый… родной мой Арт… скажи, чего бы ты не простил мне никогда в жизни?
«Боинг» в последний раз засвистел турбинами, отдавая салют экипажу, доведшему его до земли невредимым, и Рита сквозь шум услышала:
— Я признаюсь своей жене в любви уже двадцать лет. И вот какое удивительное открытие не дает мне покоя. Чем старше мы становимся, тем влюбленнее ее взгляд. Я готов поклясться, что если бы она посмотрела на меня так, как смотрит сейчас, в восемьдесят четвертом, я бы ей не поверил… Нет, не поверил… Не позвал бы за собой и не был счастлив эти годы. Мне не было бы необходимости думать об этом, если бы семь месяцев назад она не сказала, что моему первому признанию не поверила. Но все равно вышла, и что все эти двадцать лет счастлива… Удивительное это чувство — доверие. То есть — любовь.
Он не хотел смотреть на нее. Знал, что в глазах ее стоят слезы.
— Я люблю тебя… Наверное, еще более безумно, чем тогда. А это значит, что доверяю. А потому есть ли мне смысл рассуждать о непрощении тебя, если сам смысл этого выглядит глупо и… и ненужно. Салон тронулся, нам пора на выход.
Вечером она зашла в кабинет, где он весь день напропалую и тайком тянул из горла «Джонни Уокер», и села перед ним в кресло.
— Нам не нужно убивать себя, Арт. Это было один раз. Всего один раз. Без любви. Вышло… по-идиотски глупо. Ты хочешь услышать, как это произошло?
— Нет.
— Это случилось на том девичнике. Он оказался в компании случайно, а после появились и другие парни. Я выпила много… — Рита подумала о том, что как раз этого говорить ей и не следовало. — Но я хорошо помню, что произошло… Это было секундное увлечение, Арт…
— Ну, я так не думаю, — прохрипел он. — Я уверен, что не менее чем двухминутное…
— Арт… — она запнулась, — милый Арт… Я подвела нас…
— Довольно.
— А через три месяца поняла, что…
Он с трудом выбрался из кресла. Он тоже выпил предостаточно, и тоже не совсем владел собой. Заминка в кресле спасла его и ее. Когда он выпрямился, гнев схлынул, осталась лишь жалость к себе. Она выковыряла из себя чужую плоть, выжала ядовитую сперму, не дав ему шанса увидеть своего наследника… Разве это можно простить? Наверное, можно. Только пусть она прямо сейчас уйдет…
— Я легла в больницу, и меня вычистили. Вот теперь ты знаешь все.
— Это ты называешь… не убивать? — едва слышно проговорил он.
— Теперь ты знаешь все. Я приму любое твое решение, Артур… Но я умоляю тебя, я тебя заклинаю: прости. Я никогда тебя не спрашивала о том, насколько приятным тебе показалось посещение «Андреевских бань»… Будь же и ты великодушен… любимый… Ты был там, и я знаю, что там происходило…
— Там могло происходить что угодно, и с кем угодно, но не со мной… — Он посмотрел на нее и улыбнулся. Губы его дрожали. — Не думал, что ты вспомнишь об этом именно в эту минуту. Спустя двенадцать лет…
Ночь всегда приходит неожиданно. Рассвет, тот постепенно стирает с темных окон поволоку, он нетороплив, хотя и беспечен. Мудрая ночь всегда приходит внезапно, как просветление, окружая между тем темнотой. Проконтролировать рассвет можно — он наступает, когда березы перестают быть похожими на осины. Возвращается цветность, яркость, резкость, все начинает зримо вращаться по известной спирали жизненной силы. И только ночь неконтролируема, ибо решительно невозможно сообразить, когда же темнота в квадрате окна достигает своего апогея. Черное — оно всегда черное, и нет оттенков, и не разобрать мысли.
Когда за окном стали появляться первые светлые тени, он вошел в комнату квартиры в Марьине, вошел неслышно, но точно зная, что не разбудит.
— Что имел в виду доктор?
От «Джонни Уокера» остался только запах. Он не убил тяжесть, не снял ее с плеч и не расслабил.
— Он сказал, что я не смогу родить, пока не переборю себя, — голосом выплакавшейся за ночь женщины сказала Рита.
— Что это значит?
— Я одна знаю, что это значит.
— И он, да?
— Он — в первую очередь.
— А я — нет?
— А ты — нет.
Он устало опустился на кровать. За окном гадко чирикали воробьи и голубь топтался на подоконнике, собираясь с него сигануть вниз.
— Я никогда больше не заговорю об этом. Ты не поймешь, что творится сейчас, и не будешь знать, что будет происходить остаток жизни в душе моей ни по взгляду, ни по звуку моего голоса. Это было, но этого не было. Я не знаю, сумею ли убедить себя в последнем. Видимо, у меня та же проблема, что и у тебя. И решать ее нужно не там, — он указал себе на грудь, — а здесь, — и он указал на переносицу. — Звонили из «Алгоритма». Через два часа приезжают Перкинс с компаньонами.
И он ушел, горя желанием провалиться сквозь землю. Не от стыда. От горя.
Вечером того же дня он попросил ее взять дела «Алгоритма» на себя, чтобы он смог уехать на неделю в Шотландию.
— Нет, — сказал он, заметив, как дрогнули ее ресницы. — Это не то, что ты думаешь. — Если хочешь мстить, рой сразу две могилы. А я еще собираюсь пожить.
Она подняла на него взгляд и впервые обратила внимание на морщины Арта. Она видела их и раньше, но ей показалось, что они не были так глубоки. Она робко подняла руку и погладила его щеку.
— Любимым не мстят, Рита. А я тебя люблю еще больше, чем… чем тогда, когда старуха подслушивала под дверью каждое наше слово.
Его тянуло сюда с неудержимой силой. Однажды, побывав в Баллахулише и увидев на расстоянии побитого сединой старину Бен-Невиса, горбящегося над предгорьем чуть заснеженной вершиной, он дал себе обещание когда-нибудь сюда перебраться. Родятся и вырастут дети, потом разлетятся в разные стороны, и они с Ритой переедут сюда, и только сюда. Он каждое утро — да что там, утро! — он каждый день будет сидеть здесь, в тумане, и наблюдать за тем, как далеко внизу, под ногами, вода пожирает камни, и слушать, как ущелья вдыхают разносимый ветром аромат вереска.
Он сидел на валуне, пытаясь оттянуть комок в горле вниз или, черт возьми, вытолкнуть его вверх, и думал о том, что жизнь чертовски приятная штука. Арт уже давно приметил: если в ней что-то не получается сразу, то потом смотришь на эту неудачу со стороны, и она всякий раз кажется удачей. Неисполненное желание — уже не мое, а исполнившееся, чужое — в будущем приобретает формы, от которых со временем он с радостью отрекся бы, исполнись оно для него. Со временем предмет любого обожания, одушевленный или нет, как молодая, дышащая свежестью и наполненная влюбленностью девушка — еще не инженер, не переводчик и не бизнес-леди, еще ничья, — обрастает морщинами, грузнеет, блекнет, теряет аромат и приобретает некоторые признаки чужой принадлежности, очевидной поношенности, пропитывается неприятными запахами. И в этом ужасном виде предстает перед всеми, продолжая при этом оставаться памятником чьему-то, но не его, тщеславию. Разве это плохо? — плохо, что памятник этот установлен не в его имя? А ведь это он не спал ночами, мечтал, скрипя зубами, об исполнении этого желания. Тужился от усердия, вырисовывая формы владения исключительными правами на него…
И вдруг все обратилось в прах. Оно исполнилось — но не для него. Какой удар. Прошло десять лет. Какое счастье. А вот он, кажется, хотел иметь это более чем он… Так и вышло. И вот сейчас, глядя на этот обгаженный сверху донизу памятник тому, о чем он мечтал ночами и грезил наяву, Арт все крепче убеждался в уверенности, что жизнь даже более чем просто чертовски приятная штука.
Она прекрасна. Ведь Рита с ним. И он в нее влюблен.
Да, влюблен…
Глава 6
К лету 2006 года штат компании «Алгоритм» разросся до трех тысяч человек, и с этим нужно было что-то делать. Арт знал что: расширять его до четырех. Иначе производство просто бы захлебнулось. «Алгоритм» вот уже десять лет как перестал быть фондом. Свою задачу он выполнил, всосав в себя миллионы в годы первых лет ельцинского беспредела. В 1993 году, когда стать миллиардером было так же легко, как и покойником, Арт и Рита выжили. Шесть месяцев спустя после приобретения текстильного комбината, их держал под неусыпной опекой Аркаша Яковенко. К «Алгоритму» была заказана дорога всем, кто имел право херить любые фонды и конторы. Само собой разумеется, что не альтруистические сердечные порывы рождали желание Яковенко быть полезным разрастающемуся текстильному предприятию. Не ударяя пальцем о палец и лишь изредка поднимая трубку, чтобы позвонить то в МВД, то на Большую Дмитровку, Аркаша получал по меньшей мере восемьдесят тысяч долларов ежемесячно. В конце концов случилось то, что в годы, когда покойником было стать легче, чем олигархом (тогда это слово только вошло в моду), случалось повсеместно. Справедливо рассудив, что непосредственное участие в управлении комбинатом может принести ему куда большую прибыль, Аркаша дерзнул. Причин тому было несколько, и главной была та, что новый премьер с заплетающимся языком, Черномырдин стал делать попытки реформировать старые экономические связи.