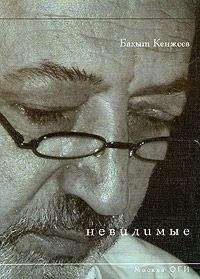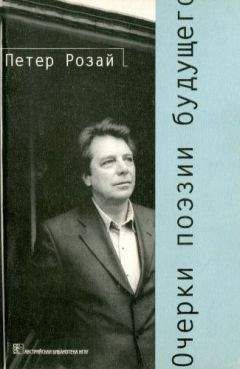Александр Гольдштейн - Спокойные поля
— Разве что. Мне бы так на семи холмах пригреться, упущено времечко.
— Пописаешь, подними меня над асфальтом, ты ж силен, как медведь. Кто это сделает без тебя?
— Господин, где тут уборная?
Раньше всех бежал атлетический честолюбец А.Л. Носатый, с идеями, с трезво ограненным фанатизмом. Карьера, провиденная цепью косвенных и прямых дополнений, устремляемых к неотчетливому в своей переменчивости подлежащему, постоянному лишь в славе и блеске, путь, задуманный на ул. рабби из Браслава, вход со двора, 9 кв. м, гири, гантели, два каната — удава с крюков, соломенная под альбомным спудом этажерка, китайская на электроплитке лапша — меньше всего мог развиться близ пальмовых рощ и у местного лукоморья. Истрепанный мотив, цитировал А.Л., в переводе германца, исчезли под небом Гомера белые города. Европа, Европа — оттуда получали мы вести.
Он прибивался к анархокоммунам, жил в скватах и в домах поклонниц, печатал прокламации, стихи, всюду взрывая покой благочиния; на выставках — исчадие для кураторов, откровение для их соперников, кое-что на нем наваривших, в гостиных, у посольств, политически меченных; оскорблял знатных особей, влиятельных одиночек и общества, провозгласил себя главой врачевания, заражающего всеми недугами (зампредседателя, белый на левом плече попугай заодно с насыланием порчи прорицал по-арамейски), изобретателем капсул несостоятельности, голубенькой пакости, рассованной по карманам, — затяжное парение от Копенгагена до Барселоны, известность подбиралась к славе, но святотатство в соборе обрекло на полгода стокгольмской тюрьмы. Деяния Павла и Феклы, апокриф, предложенный библиотекарем, тихим голландцем со шрамом через всю щеку, заворожил его, как Феклу заворожил Павел, учитель. Языческий аромат, таинственная многообещанность любви, молитвенное упоенье будущим. Молитва, незнакомая ему, пришедшая полно, всеми словами, исторглась наподобие семени. С этими и другими, близкими в духе словами, уже без бравады, взвинтившей начальные дни, провел он шесть месяцев. Бравада возвратилась в городах, с оглядкой, половинчатая, он проваливался. Фекла и Павел держали его за рукав. Попросившись к бенедиктинцам, сочинил в келье роман о себе и духовных возлюбленных, учителе и ученице. Прозу о воплощении, принимающем несостоятельность в свой зыбкий, текучий состав.
Но я не о том — он забрал с собою Найроби.
Прохожий, если ты здесь и со мной: в начале этого текста тебе могло показаться, что о Найроби, островах белой Африки в светской столице евреев, я пишу легким пренебрежительным слогом — забавный, и только, курьез. Во-первых, необходимый композиционно маневр, дабы сосредоточиться на юродах и женщинах, столпах городской атмосферы тогдашней, чувственности, обоняемой в осязании, — повторюсь, не боясь повторений. В сравнении с ними, я думал, ежели посчитать это думаньем, мыслью, ничтожные, плохо доступные, числом меньше дюжины участки Найроби сжимаются в лоскуток, не имеют призвания. Но я, во-вторых, заблуждался, воззрения мои изменились: на письме, от письма. Роль Найроби огромна, самостоятельна, исторична. Теперь-то я знаю, Найроби — магические пространства, не разрешавшие городу набрать ритм буржуазности, респектабельности, бурно ускориться в эту сторону. Заряженные колдовской потенцией, направленной, ничуть не трущобной волшбой, служили мощнейшим противовесом, и в год вырастало не более одного захудалого небоскреба, а в центр торговли, единственный на горизонте, водили гулять и смотреть. Исчерпание магической силы Найроби, о котором сегодня сужу по плодам: ограничители видимым образом рухнули, ничто не препятствовало уподобиться законодателям карты, знаки свершившегося были повсюду — странно совпало с отъездом А.Л. (до самого окончания текста соответствие это не приходило мне в голову). Не предположить ли, что, очарованный, восхищенный Найроби, как ничем другим в покидаемом городе, он, умеющий многое, одаренный подрывник-самоучка, похитил из африканских дворов эту мощь для своих собственных зависаний над крышами. Почему бы и нет? В случайность не верится, с годами она перестает что-либо значить, уступая воле, судьбе, применяясь к их неслучайному поприщу. Дабы под занавес, сбившись в кучу с другими случайностями во всем их неотвратимом кошмаре, подытожить картину предрешенностью общего случая. Но пока до этого далеко. А город разбросанно, празднично изменялся — с того самого, обойденного летописцами дня.
Воздам должное гению места, темп сперва был невысок. Левант поспешает размеренно. Ломали и строили, насаждали всечеловечность, какой процвела она в землях, выбранных к подражанию, однако ж не одержимо, не в наведенности, маниакально оторванной от причин и сверхцели, не скупясь на просветы меж билдингами. Распутывая этот клубок, сейчас на балконе близ Лода, Лиддо евангельского, поздней змееборно-георгиевского — апрель, вечереет, огромная, точно при Аврааме, манящая пустошь: арабское стадо овечье, под конвоем лохматого пса, одногорбых верблюдов, с пастушонком-эфебом, бич, заостренная палка, подростки-охальники, стая волчат, разожгут в ямах костры, навзрывают патронов, брань собачья, собачьи, русское приблатненное нововведенье, бега, дети нарковладык, строгих, по виллам рассевшихся мусульман, изящно гарцуют, как на подбор аладдины, в кожаных седлах, на алых попонах, храп гнедых жеребцов, поодаль, у задника, взад-вперед поезда, тупорылые красные в пять-шесть двухэтажных вагонов, зеленые, синие змеи, двадцатка стремительных, низких, самолетное над ними взмывание с виражом и уплывом за облачность, по апрелю недожденосную, — распутывая, так до конца не распутав, противореча себе, я склоняюсь к тому, что погибшие было Найроби изредка, ненадолго, послесмертной за-памятью воскрешали свое волхование в переходное время, появлялись, может быть, новые очажки (ослабевал ли в такие минуты скиталец А.Л.?), отсюда и мягкость переходного времени. То, чем сменилось оно, не предполагало вариантов.
Пресловутая скорость, ненасытность торговли, архитектурные взрывы. Все отразилось в зеркальных утесах и скалах, вихрь компьютерный, все полезло в экран, галлюцинируя, обосновалось в экране, из экрана перекроило весь город. В эту пору убрали юродов: песьи лапы сжимают в могиле перчатку боксера, поперечная трость, горсть монеток, переводы из Радноти в неистлевающем балахоне толстухи; истощилось терпение женщин, друзей, срыли Blues Brothers, усохло кафе эмигрантов, Альды подняли якорь, поманив за собою дельфина. Сильное время поступков, повезло, что увидел его. Ломящийся эпос, порыв. Жизнь богов. Горние голоса. Наставления новой ответственности. И трижды благословенное предыдущее в песчаных, асфальтовых косах Плодородного полумесяца. Мне удалось его застать.
Боже мой, моросит, чего доброго хлынет, неслыханность, небывалость. Смоет стада и костры, кавалерию, велосипеды, брехню очумелых барбосов. Так и есть, не щади, от души, последний до осенней зимы ливень. Лихорадочная поправка-дописка в тетради, капает на страницу, ох ты, как хорошо. В комнате на скатерке-столешнице альбом эрмитажный с камеями, Гонзага, Гонзага.
Перечень невозможного
Университет на юге, книги для уничтожения: в утиль, под нож, под пресс — в рост человека по обе стороны коридора. Нетронутый город, Ур Халдейский, пески Хара-Хото, и я, раскопщик, примериваюсь, тычусь, дрожа от волнения, в корешки. Отойди, стращает тюрчанка-смотрительница, матрона в вязаных носках, поясничном платке, выйдет директор, арестует за воровство. Так сами же отправляете на помойку, у меня хоть что-нибудь уцелеет, не твоего ума дело, наша работа, а другим запрещается, ладно, минута, и чтобы больше не видела. Мудрость ее не чета моей беззаботности, волна откушанного шашлыка, от кокотки не сильнее бы разило мыльной пеной, духами и притираниями будуара, выносит откуда-то сбоку чуть жеманного от своей желудочной основательности касатика-смугляка, скорое на расправу начальство, причмокивающее мясным волоконцем и соком, но я даю стрекача, выхватив переплетенный в два багровых фолианта Уйальдов разлистанный четырехтомник, пясть изъяла из кучи сама, отключив от участия голову.
Книги полнятся плачевной усладой. «Саломея» размечена карандашом для домашнего театра в Тифлисе: Иродиада — Катя, Иоканаан — Сережа, Ирод — Игорь Васильевич. Девичий грифель поет осанну незыблемости, на блузке крахмальной несколько дуновений лаванды из флакона в посеребренной кольчужке. Мужские на страницах для заметок чернила переносят действие в Петроград — сентябрь 1915-го, дождь, солнце, трамваи, пролетки, авто. Воспоминание об ассириологическом семинаре, застрявшем в классификации храмовых блудниц, завершалось неожиданным для вавилонских иеродул наблюдением. Из двух компонентов федоровского учения, писал аноним, — воскрешение отцов и преодоление небратского состояния, что даже невероятнее восстановительного собирания прахов, вторая задача парадоксально проводится нынче в границах просвещенного слоя под раскрепощающим гнетом самого же небратства в его наихудшем обличье — европейской войны. Мужчины в городе — военные, офицеры, женщины, девушки — медицинские сестры, вот в дополнение к филадельфийству под пером объявилось и сестринство, непроизвольно, как бы и независимо от доподлинной повсеместности этих фартуков, платьев, этих красных на головных повязках крестов; то женственная речь потребовала равной доли у языка.