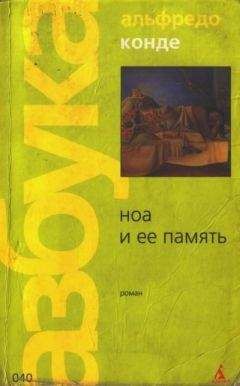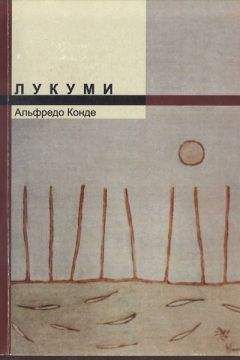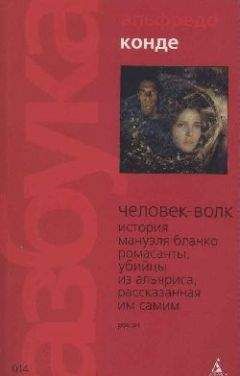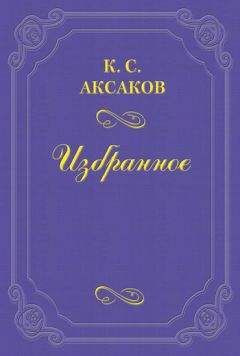Альфредо Конде - Грифон
Посланец уже одолел первый лестничный марш и ждет, скрытый тенью, окончания спора. По существу, речь идет о том, что врач не хочет, чтобы хирург производил анатомирование частей тела, которые он исследует прямо на глазах у больных; не желал эскулап и брать на себя ответственность, отдавая распоряжения о захоронении останков тел по частям. Это корпоративная, может быть даже узкогрупповая, цеховая борьба, в которой Посланец склонен усматривать определенное бесстыдство хирурга и доброе отношение лекаря к больным, вынужденным наблюдать, содрогаясь от страха, как у них на глазах четвертуют человеческое существо, — еще совсем недавно оно стонало, плакало, смеялось или предавалось несбыточным мечтам о скором выздоровлении.
Когда Посланец понимает, что спору не будет конца, он решает подняться на самый верх и предстать перед эскулапами; он усмехается, предвкушая, какое действие произведет его внезапное появление, его безрассудный поступок, но он уже не может остановиться; потупив голову и глядя исподлобья, указывая перстом куда-то вдаль, он вторгается в спор, говоря:
— Да, но вам должно быть известно, что если отделить от тела хрящ, кость, сухожилие или же самую нежную часть щеки и крайнюю плоть, то они никогда больше не оживут и их нельзя будет срастить, то есть воссоединить.
Лекарь оборачивается на этот низкий размеренный голос, говорящий на наречии Галисийского королевства, да еще с таким знакомым, с таким родным выговором; он бросается к Посланцу, сжимает его в объятиях и отвечает с улыбкой, чтобы не оставалось уже никаких сомнений:
— Гиппократ, «Афоризмы». Раздел шестой, номер девятнадцатый…
Они с силой, по-мужски хлопают друг друга по спине; потом долго рассматривают один другого, обхватив за плечи, и вновь крепко обнимаются…
— Да, но ведь ты знаешь — там, где я сказал «щека», надо читать что-то совсем другое…
Врач схватывает смысл игры, он готов забыть о споре с хирургом; тот удивленно наблюдает происходящее, теряет контроль над ситуацией и начинает понимать, что сейчас вряд ли добьется своего.
— Знаю, знаю; и, хотя Аристотель, прочитавший в этом месте «щека», как будто подтверждает такое понимание текста, он сам добавляет «веко», думаю, просто на всякий случай. Но ведь тебе известно, что этого нет ни в арабских, ни в греческих текстах.
Посланцу в определенной степени тоже присущ дух соперничества, некий азарт, заставляющий его принять вызов, предварительно, правда, взвесив опасность риска. В любом случае цель достигнута: хирург вежливо прощается и уходит в сопровождении практиканта и старшего санитара, молча присутствовавших при недавнем споре. Увидав горячие объятия, они понимают, что встретились старые друзья, и оставляют их наедине, пусть себе мирно прогуливаются по верхней галерее. Но они еще успевают услышать слова вновь прибывшего, который продолжает настаивать:
— Я только что из Италии, там многочисленные новые опыты, проведенные такими же выдающимися людьми, как тот, кому ты отказываешь в практике, доказывают, что нервы и сухожилия способны срастись, если их соединить сразу после рассечения. Достижения хирургии вносят коррективы в Гиппократовы афоризмы.
И оба идут дальше по галерее.
Позже, в усладе вечера, который внезапно озаряет Компостелу светом — чего уже никто не ожидал в тот день, — друзья продолжат говорить о том, что близко им обоим, о завоеваниях науки, о новых мирах, открываемых знанием. Но когда они уже спускаются по лестнице, врач вновь принимается за свое:
— Этот дурак — человек совсем не выдающийся, мой дорогой друг. Однако твои слова означают, что если у кого лопнул мочевой пузырь, то он отнюдь не пребывает в смертельной опасности?
— Нет.
— А если у кого проломлена голова?
— Нет.
— А если рана в сердце?
— Нет, если она небольшая.
— Даже в сердце?
— Даже в сердце.
Врач вновь сомневается; но теперь он серьезен, он внимательно слушает, стараясь запомнить эти невероятные сведения.
— А в диафрагме?
— В диафрагме — не знаю, но в почках — тоже не смертельно, об этом говорили еще арабы и их толкователи.
— Значит, ни в тонких кишках, ни в желудке, ни в печени рана не будет неизбежно смертельной?
— Именно так.
— Тогда выбросим еще одно изречение!
Посланец смеется:
— Восемнадцатое, если не ошибаюсь.
— Черт побери! Да ты алхимик!
Посланец смотрит на врача и молчит, он ничего не утверждает. Но и не отрицает. Он просто молчит. Тяжелые настали времена для науки, да и вообще для всякого знания. Аранхуэсский монарший эдикт непререкаем в своих угрозах: пожизненная ссылка с конфискацией имущества для всех, кто учится или преподает в иноземных городах и университетах. Король вошел в Вальядолид, предав аутодафе лютеран, и все приветствовали его, и он упивался зрелищем костров, полыхавших таким жарким пламенем, будто на них горело нечто совсем иное, а не плоть мыслящих людей. Недобрые нынче времена, и тот, кто приезжает в страну или же покидает ее в поисках новых знаний, обмена опытом или научными сведениями, считается потенциальным шпионом, пищей для аутодафе. Над всеми властвует кровавый Брюссельский эдикт, и эта беседа — опасный риск.
— Черт побери! Зачем же ты приехал в Компостелу?
Наконец Посланец решает довериться ему и все рассказать.
Королевство Галисия — нечто вроде тихой заводи, в нем трудно найти палача, которого Инквизиция могла бы использовать в борьбе с еретиками; нужно, чтобы такой палач был доставлен извне, и извне же должны прибыть нетерпимость, обскурантизм, слепая фанатичная вера, дабы одолеть все, что они называют суевериями, язычеством, местным своекорыстием. И в эти смутные и трудные времена находятся люди, прибывающие в древнее королевство с секретной миссией — помешать появлению палачей, поборников нетерпимости, мракобесов и фанатиков.
— Ты уже слышал что-нибудь о Воинском Ордене Пресвятой Девы Марии Белого Меча ?
IX
Реку Дюранс питают воды, текущие из Вердона, возможно из озера Сент-Круа, и она действительно синяя, по крайней мере в этот вечерний час, когда множество автомобилей и разноголосая речь заполняют ее берега и юные пришельцы вновь назначают друг другу свидание пред чудом вод.
Студенты не знают, почему они здесь. Ведь совсем близко отсюда — море, пляжи, наконец, бассейны Экса; но они здесь, на этом каменистом берегу, поросшем уродливыми деревьями. Рядом — заброшенная, полуразрушенная усадьба, в которую молодежь заходит из любопытства, осматривая древнее, пришедшее в упадок владение.
Лучше всего сохранились конюшни, в которых старые арки, сложенные из дикого камня, все еще поддерживают своды, устоявшие перед превратностями времен и стихий. Сам жилой дом представляет собой необычное сооружение с четырьмя круглыми башнями, возвышающимися над ним; это мог быть постоялый двор или монастырь, замок или пограничное укрепление: здание расположено над рекой, и не похоже, чтобы земля вокруг была пахотной, — впрочем, когда-нибудь, может быть, ее и возделывали.
Люсиль, ответственная за курс и за приезд в столь примечательное и неприветливое место, устанавливает с помощью услужливых девиц газовые плитки, достает кастрюли и безвкусные сосиски из белесого мяса, единственное достоинство которых в том, что они перченые и хороши с вином, но пить его сейчас, когда так жарко и оно, конечно же, теплое, не имеет никакого смысла. Итак, судя по всему, это университетский пикник. Студенты идут купаться.
Ложе реки каменистое, в одном месте видно даже что-то вроде водоворота, он совсем небольшой, но студенты избегают его, опасаясь, что их снесет. И приезжий профессор вспоминает водовороты Миньо [29], «Отца галисийских рек»; майскими утрами, прогуливая школу, они отправлялись в далекие походы вверх по течению на восемь, десять, двенадцать километров, пока наконец положение солнца не подсказывало им, что пора возвращаться вниз, в Ойру, которую так любил дон Висенте [30]; и тогда они бросались в воду, отдаваясь на волю течения, беззаботно счастливые и легкие, словно перышки. Река неслась стремительно, и, когда они приближались к плотине, надо было суметь обогнуть ее, стараясь не попасть в бурлящий водоворот падающей воды. Не удастся избрать верный путь — тогда или погибнешь, или воскреснешь в кипящей пене, обезумев от ударов и нервного шока. Но если ты избрал верный путь, то стремительный неукротимый поток подхватит тебя и понесет, словно ты — отблеск молнии или букашка, разглядывать которых так любил Эдуардо [31], и тело твое напряжено и вытянуто как струна. И ты несешься вниз по реке, замирая от восторга и страха, боясь побить колени о каменистое дно, потому что за плотиной всегда мелко, и ты видишь, как под тобой проплывают камни, — кажется, будто движутся они, а ты лишь ощущаешь во всем теле ту осязаемую невесомость, которую может дать только вода.