Доминик Фернандез - На ладони ангела
Одним воскресным майским днем Тосканини приехал в Болонью. Он остановился в отеле «Брун», любимом старом дворце королевы Маргариты, в котором перманентно ошивались дряхлые дворяне, переезжавшие во дворец вместе со своей мебелью и обстановкой. Во время войны его разбомбило. Вечером маэстро должен был выступить в муниципальном театре с концертом памяти бессменного директора консерватории, Джузеппе Мартуччи. По чистому совпадению в тот день должно было состояться открытие Майской Ярмарки: важное событие в нашем городе, связанное с культом свинины — болонская мортаделла, фаршированные моденские окорока, сосиски из Имолы… Подростки в коричневых рубашках раструбили на весь город сообщение, опубликованное в утренней «Карлино», что в вечернем гала-концерте, назначенном на девять тридцать, примут участие замминистра внутренних дел, Леандро Арпинати, и — предмет особой гордости меломанов — Галеацо Чьяно, зять Муссолини собственной персоной. Автор статьи воздержался от намеков на то, что эти могущественные иерархи поспешили в столицу Эмилии, соблазнившись на колбасную пирушку, о которой напоминала программа фестиваля, красовавшаяся на ярмарочных щитах, а не на концерт для скрипки с оркестром си бемоль покойного соотечественника. С учтивой осмотрительностью журналист под конец обращался с «гальванизирующим», как сказал бы мой отец, призывом ко всем местным фашистам организовать Их Превосходительствам прием, достойный родины Альбани, Альгарди, Бибьены, Доминикена, Карраша и Серлио (он не осмелился добавить «мортаделлы»; алфавитный порядок лишь подтверждает, что газетчик едва успел освежить свои номинативные познания по розовым страницам словаря). «Да взовьются все наши знамена, да заполощутся штандарты Константина Великого!»
Увы, для полного успеха этого праздника римского флага оставалось, чтобы ветры соблаговолили ниспослать хоть какое бы то ни было дуновение, но ни апеннинский трамонтана, ни адриатические ветры, овевающие долину По, и не подумали заявить о своем присутствии. В городе стояла душная весенняя жара. Неподвижные стяги безжизненно свисали в застывшем воздухе. Единственным существом, сотрясшим воздух, оказался мой отец, который вернулся домой ровно в полдень в состоянии сильного возбуждения. Хлопнув всеми дверьми, он закрылся в своей комнате, не сказав нам ни слова. Он предстал перед нами уже в парадной форме, с багровым от ярости лицом.
«Отмщение, отмщение!» — бормотал он.
Отец выпил рюмку яичного ликера и объяснил нам причину этой внезапной эмоциональной вспышки. Профессор Липпарини, признанный гуманист, автор школьных учебников и мэр Болоньи, отправился с приветствием в отель к маэстро и попросил его исполнить с оркестром фашистский гимн «Джовинецца» в тот момент, когда два иерарха появятся в театре. «Вы сошли с ума, — ответил Тосканини. — Даже короли, которые часто приходили ко мне на концерты, не изъявляли подобных претензий. Я дирижирую только для серьезной музыки». Вследствие столь чудовищного оскорбления, — добавил мой отец, — префект Гуаданьи созвал все полицейское и армейское начальство. Нам что теперь, опасаться восстания? Мы, стало быть, не должны были обедать с ним, — сказал отец и посчитал своим долгом пойти в префектуру. Общественный порядок был нарушен.
Остаток дня прошел в лихорадочных переговорах. Их Превосходительства должны были приехать только в семь часов специальным поездом из Рима и, прежде чем предоставить свои ушные раковины в распоряжение концертного празднества, они отправлялись непосредственно на холм Святого Луки, чтобы набить себе брюхо на свиной пирушке. Добряк Тосканини посоветовал прибегнуть к помощи муниципальной капеллы, которая могла бы сыграть фашистский гимн на пленэре перед входом в театр. Компромиссное предложение был воспринято как очередная насмешка (каковым оно, возможно, и было). Федеральный секретарь Гинелли, вне себя от ярости и страха, потребовал как раз то, что, как и ожидалось, в конечном счете, срикошетило дубиной по черепушке этого маразматика. Наконец, банкет начался. Когда часы пробили девять, и гости, вскинув руку, бросили взгляд на часы (кроме Чьяно, который носил свой булыжник на цепочке), продолжая, дабы не упустить своего, с удвоенной силой пожирать заливных поросят а ля Жакопо, настало время уведомить замминистра внутренних дел и министра печати и пропаганды, что в театре их ожидал беспрецедентный афронт.
Зять Муссолини расхохотался. «Да упаси Господи! — зыкнул он заплетающимся языком, распухшим от чрезмерных возлияний шипучего ламбруско[10]. — Гора с плеч!» Стоит ли удивляться, что выступление артиста, столь же провинциального, как и покойный Мартуччи, не могло возбудить ни малейшего любопытства у такого немузыкального собрания? Следует все же напомнить, что подвигом этого более чем скромного композитора и его главным достижением, о котором нельзя сегодня забывать, стала осуществленная им в Болонье первая постановка на итальянском языке вагнеровского «Тристана». Даже будучи глухим к прелестям Эвтерпы, Его Превосходительство все ж таки должен был знать, какое неописуемое наслаждение доставили великому Другу его тестя, его трансальпийскому Идеалу, сладостные звуки бейрутского карлика. И пока Арпинати подавал префекту знаки возвращаться в город без них и больше их не донимать капризами свихнувшегося старика, Чьяно — в восторге оттого, что нашел предлог отказаться от приглашения — расслабил ремень на одну дырку и заказал себе очередную порцию заливного. Замминистра, сидевший справа от него, тем временем деликатно ухватил деревянные щипцы, запустил их в банку с корнишонами и собственноручно сервировал своему августейшему соседу набухшие пупырчатые огурчики.
А у подножия холма, в гнетущей городской духоте, настроение у всех уже было испорчено. Все эти приготовления, весь этот переполох впустую! Освирепев от наглости министров, Гинелли не знал, на чем и ком сорвать свой гнев. Не допущенные к пирушке, отряды фашистской молодежи по быстрому расправились со своими немудреными макаронами, обыденно приправленными а ля болоньезе. Ободренные федеральным секретарем, они собрались перед входом в театр. Античная муниципальная гордость, которая восстановила их предков против Рима, в последний раз вещала их взмыленными устами. Да разве они позволят держать себя за дураков? Среди них был и мой отец. Оскорбленный поведением Чьяно, он не мог себе простить, что пренебрег домашним обедом и бросился спасать фашистскую честь, которой его исторические кумиры бессовестно пожертвовали ради собственного брюха.
Тосканини подъехал к театру на своей машине. Едва он опустил ногу на землю, как его с угрожающим видом окружила небольшая толпа.
— Намерены ли вы играть Джовинеццу?
— Нет, — в который раз ответил маэстро.
Его начали теснить и толкать, кто-то ударил его кулаком в спину; с его головы слетела фетровая шляпа, и толпа ее яростно затоптала. Событие, вызвавшее скандал и возмущение в международной прессе, для Тосканини кончилось пощечиной. Кто-то божился, что видел, как капитан П. замахнулся рукой. Другие, напротив, приветствовали появление военных, пытавшихся охладить разгоряченные умы и говорили, что какой-то офицер с тремя галунами (единственное уточнение, которое мне удалось раздобыть) во избежание худшего помог Тосканини сесть обратно в машину. Наиболее ярые манифестанты, во главе с Гинелли, устроили шествие к отелю. Федеральный секретарь посоветовал маэстро немедленно покинуть Болонью, так как власти не могли уже отвечать за его безопасность. Ночью, под охраной эскорта карабинеров, Тосканини уехал в Милан. Некоторое время спустя, бросив свой театр и свою родину, он эмигрировал в Америку.
Этот инцидент не нанес удара по престижу ярмарки, которая по-прежнему из года в год открывает свои выставочные стенды. Тосканини само собой заработал на этой поросячьей истории только лишней славы. Было ли у Чьяно с Арпинати несварение желудка, история умалчивает. Единственная достоверная жертва свиных эмилианских празднеств — бедный Мартуччи, которого в тот вечер так и не сыграли, и впоследствии более ничем запоминающимся память его так и не почтили.
7
Великий понтифик и главный шут нашей довоенной Италии-Акиле Стараче, секретарь Народной фашистской партии. Он предписывал мужчинам втягивать животы и выпячивать грудь, а женщинам, которых он считал детородными машинами, наращивать грудь и бедра. После оккупации Эфиопии, мы должны были кричать: «Да здравствует Дуче, основатель Империи!» Пресса прошла подробный инструктаж. Писать не: «В знак примирения они пожали друг другу руки», а: «приветствовали друг друга по-римски». Вместо: «Мэр заложил первый камень» — писать: «нанес первый удар киркой», так как глагол «заложить» означал недостаточно мужественное действие. Стараться не говорить, что высокопоставленное лицо обосновалось в кресле какого-либо ранга: крайне досадно и некрасиво, если создается впечатление, что начальник начинает с того, что садится. В дни грандиозных фашистских празднеств, когда люди со всех концов города стекались к стадиону, требовалось идти с развернутым флагом и запрещалось заворачивать его в газету или нести подмышкой. Должностным лицам предписывалось ходить маршем и все торжественные церемонии предварять исполнением гимнастических трюков, таких как прыжок через штык с сомкнутыми ногами или прыжок сквозь горящий обруч.

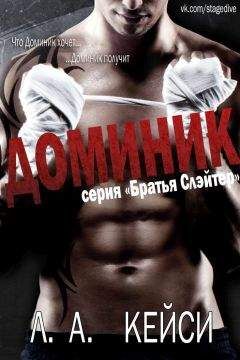
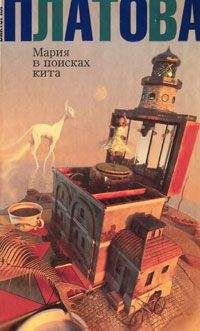
![BlackSpiralDancer - Unwritten [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
