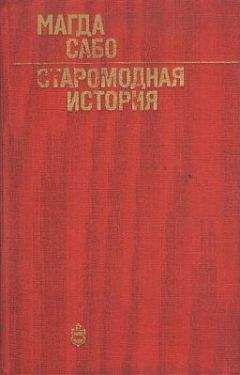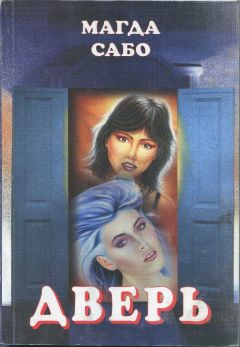Тони Хендра - Отец Джо
Мы выехали на открытое пространство и помчались вдоль покрытых буйной растительностью полей и густых рощ. Почти сразу с правой стороны я увидел выросший среди огромных дубов и темных елей странный круглый шпиль из кирпича — нечто среднее между шляпой гнома и ядерной боеголовкой. Автобус залихватски тормознул у длинной подъездной аллеи, уводившей к шпилю. Дальний конец ее, темный от густых влажных зарослей, казалось, что-то скрывал.
Вокруг не было ни намека на то, что ожидало меня там, в конце дороги. Это вполне могло оказаться тюрьмой в сельской местности. Или современной версией инквизиторского заведения для несовершенных прелюбодеев. С таким-то шпилем здание запросто могло быть зарубежным представительством Кремля.
Внезапно я ощутил непреодолимое желание убежать, вернуться к родителям и знакомому мне миру, объявить сумасшедшего, стоявшего рядом со мной, лжецом, обманом втершимся ко мне в доверие. Я совсем не обязан слушаться его. Да и вообще, я его не знаю. Вдруг этот тип тронется умом и набросится на меня, поощряемый теми, кто находится там, в конце подъездной аллеи? Если я пойду дальше, произойдет катастрофа, моя жизнь изменится или же ей и вовсе настанет конец.
Но я был послушным мальчиком, воспитанным в лучших британских традициях. А послушные мальчики не устраивают сцен на людях.
Так что я двинулся вверх по подъездной аллее, к аббатству Квэр.
Глава третья
Первое, что поразило, это полнейшая тишина которую, казалось, можно было пощупать — я даже остановился и замер, чтобы проверить, не слуховая ли это галлюцинация. Мне стало еще больше не по себе — я на собственном опыте знал, что подобное затишье предвещало бурю неприятностей. Однако ничто не нарушило тишину.
Мы оказались в просторном, приятном на вид дворике, вот только при ближайшем рассмотрении выяснилось, что он со всех сторон огорожен, попасть внутрь можно только с подъездной аллеи — через массивные железные ворота с надписью «Частное владение». С двух сторон двор огораживали кирпичные стены, за которыми находился обширный, засаженный зеленью огород. С третьей, как раз напротив нас, стояло высокое здание с многочисленными сводчатыми окнами и огромной деревянной дверью в виде усеченной готической арки из тех, что в свое время выдерживали секиры и тараны осаждавших войск. С четвертой стороны находилась красивая церквушка, ее входная дверь представляла собой еще более усеченную арку.
Архитектурный стиль невозможно было отнести ни к британскому, ни к французскому. Особо почтенным возрастом постройки не отличались. Они были из розового и желтого кирпича с зубчатыми стенами и невысокими треугольными башенками; если присмотреться, башенки напоминали тот самый шпиль, который, как оказалось, венчал колокольню. Теперь он выглядел не боеголовкой, а элегантным минаретом. Двуцветные узоры из кирпича, а также сплошные треугольники сообщали строениям мавританский дух — одновременно утонченный, экзотичный и слегка запретный. Если не принимать во внимание церковь, все остальное мало напоминало аббатство. Трехъярусное здание напротив нас выглядело как пансион для девочек или одно из тех исправительных учреждений нового, послевоенного просвещенного времени, в которых никого не секли.
Бен не стал подходить к администратору, сдавать багаж, подзывать коридорного или совершать иные действия, принятые в подобных местах. Вместо этого он сразу направился в церковь, потянув меня за собой.
Уже потом я проникся изящными пропорциями и исключительной простотой интерьера, такого необычного для католичества с его слащавыми кусками гипса в виде Девы и святых, безвкусными, разномастными приделами и жуткими комками застывшего воска полипами свисающего со свечных подставок.
Но поначалу я ничего этого не заметил, а все из-за музыки.
Нельзя сказать, чтобы до этого я не слышал григорианских песнопений — кое-где в католической литургии они сохранились. Однако нестройное кваканье, исторгаемое нашим добрым пастором с его гингивитом на деснах, убивало всякую красоту.
Звуки казались далекими, но в то же время пробирали до глубины души. Они парили в воздухе мягко и безмятежно, нисколько не походя на грубоватую хоровую музыку — «Реквием» Моцарта или «Девятую симфонию» Бетховена, — которую папа любил слушать на наших новеньких волшебных долгоиграющих пластинках. Звуки носились в воздухе, лаская лучи света, пробивавшиеся через длинные окна нефа, паузы между словами несли в себе не меньше прозрачности и выразительности, чем сама мелодия.
Если только «мелодия» была подходящим словом. Меня, подростка, тональность музыки попросту поразила, она показалась какой-то иноземной, экзотичной, восточной и… древней, невообразимо древней, еще дохристианской. Она не походила на католическую, средневековую, в ней не было ничего благочестивого. Воображение уносило меня к Средиземноморью, но только гораздо более далекому и чистому, в эру туземных мистерий, богов вина, сатиров и оливковых рощ, еще до прихода отстраненного, не имеющего лика божества.
Не хочу сказать, что песнопения походили на языческие — ханжеское словцо, подразумевающее гедонизм, — в них начисто отсутствовала какая бы то ни было жажда наслаждений. Они не вызывали сладко щемящую тоску, страсть или торжественность, свойственные Бетховену, Брамсу и Шуману. Это была музыка духовная, дававшая покой, а не эмоциональное высвобождение, выражавшая стремления души, а не сердца. Ноты звучали одна за другой в древнем, первородном порядке; вполне возможно, такую музыку слушали еще в землях Плодородного полумесяца.[8] Мне казалось, что такая музыка была приятна уху еще древних греков, египтян, ассирийцев или шумеров, а может статься, даже акустическому аппарату таких августейших особ, как Будды или Лао-Цзы.
В сотне футов от меня на некотором возвышении двумя длинными рядами тянулись изогнутые резные хоральные ложи, располагавшиеся друг напротив друга через неф. В ложах стояло около шестидесяти мужчин всех возрастов — человек по тридцать с каждой стороны. Все они были с головы до пят в черном, и у каждого, обряженного в рясу, на спине висел пресловутый капюшон.
Шла Страстная Седмица, поэтому в гимнах и антифонах чувствовалась особая тяжесть. В основную мелодию вклинивались длинные периоды простых, повторяющихся фраз, которые попеременно доносились то с одной, то с другой ложи. Бен шепотом объяснял мне, что происходит, но я почти не слышал его — я сидел как громом пораженный, омываемый волнами мелодии, один на берегу открывшегося мне океана неведомых переживаний.
Служба закончилась; позже я узнал, что это была вечерня, совмещенная с молитвами девятого круга, которые читаются с четырех до шести. Монахи покинули хоры и парами прошли к алтарю, где преклонили колени. После чего развернулись в нашу сторону и вышли из церкви. Они шествовали молча, опустив головы и глядя в пол, скрестив руки, спрятанные под рясами и совершенно не обращая внимания на окружающих — нескольких женщин вдовьей наружности и нас; те, что помоложе, шагали в ногу, старики шаркали и прихрамывали. Самые старые, поравнявшись с нами, набросили на головы капюшоны — но не из какого-то там злого умысла, а всего лишь потому, что в церкви было свежо.
Я пытливо вглядывался в лица монахов, ища сурового — но, матерь Божья, умоляю тебя, справедливого и милосердного! — поборника дисциплины, который знал, как разрешить дело. Но так никого и не высмотрел. Мне показалось, что среди монахов много тех, кто с Континента — в те дни англичане называли Континентом Европу, подразумевая под этим словом малые племена с территорий по ту сторону Ла-Манша — однако ни одна из этих галльских, оливкового цвета физиономий или тощих и землистых англо-саксонских рож не подходила под описание. Скорее наоборот, они все до единого выглядели исключительно добрыми.
Нам выделили комнаты; проводил нас дряхлый монах, с превеликим трудом влачивший свое немощное тело по лестнице гостевого дома; пока мы шли, я успел осведомиться у Бена о том, не тот ли это монах. Оказалось, что нет. Гостевой дом был высоким трехэтажным строением, тем самым, которое я принял за пансион для девочек или исправительное учреждение. Комнаты простые, с незатейливой обстановкой; моя находилась на третьем этаже — крошечные окна выходили на внутренний двор монастыря. Значит, о побеге по водосточной трубе нечего и думать.
Пыхтевший от натуги монах все время молчал. Когда он, пошатываясь, пустился по лестнице в обратный путь, Бен поспешил за ним и вполголоса о чем-то спросил. Добрый монах громко ответил, что нет, смотритель дома отсутствует, да и приор (я понятия не имел, кто это) тоже занят до самого вечера. Однако он все же постарается зайти к гостям до ужина.
— Да, и еще… — прибавил монах, уставившись на меня своими бледными, водянистыми глазами, — отец Уоррилоу осведомлен о вашем «затруднении особого свойства».