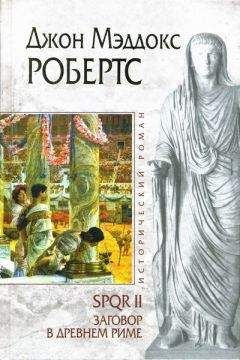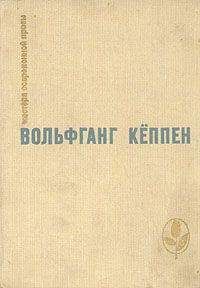Вольфганг Кеппен - Смерть в Риме
И вот Кюренберги, две твердо очерченные тени, подошли к окну, к окну высокому, точно в башне, и принялись смотреть вниз, на полное огней ущелье улицы и на другие дома в этом привокзальном районе, на пристанища людей в многоэтажных каменных ящиках, которые подобны их дому и тоже набиты странниками. Вспыхивали световые вывески и манили. Рим был, как всегда, готов к тому, чтобы быть завоеванным, и Кюренберг стал думать о музыке Зигфрида, которую он для этого города будет завтра снова усмирять и остужать, сдерживая поток ее чувств, а Ильза стояла рядом с ним, смотрела на автомобили, ползущие по дну улицы, словно отряды огромных клопов, смотрела на ненадолго прирученную молнию, трепетавшую с мнимой безобидностью на дуге троллейбусов; она прозревала насквозь эту условность, эту всеобщую договоренность — не видеть смерти, отрицать страх, ведь право на владение этими домами было внесено в ипотечную книгу, и даже римляне, у которых под боком так много засыпанного и разрушенного великолепия, даже римляне поверили в вечную нерушимость столь пригодившихся сейчас на их древней земле каменных зданий; Ильза видела мистерии торговли, тоже основанные на бредовой иллюзии вечности, наследования и безопасности, она созерцала расцветавшие и гаснущие феерии рекламы, пестрые отблески, вспыхивающие еще во времена ее детства, ртутные огни и бесовские свечи, — и как же наивен был отец, который воздвиг между ее девичьей жизнью и своим торговым домом стену из книг, музыки и живописи, бастион, обманувший их ожидания, зажег кроткий свет лампы, навсегда погасший. Ее зазнобило, и она подумала: ужасно холодно. Она думала: уже поздно. И она сказала про себя: «Этот молодой человек из моего города пишет симфонии, его дедушка, быть может, сиживал за спинетом или играл на флейте, но его отец убил моего отца, моего отца, который был собирателем книг и любил слушать Бранденбургский концерт». Она взяла руку Кюренберга своей рукой, холодной и на мгновение будто мертвой, вложила пальцы в кулак дирижера, теплый, сухой, упругий и надежный, а он все еще смотрел вниз на улицу, полную людей, и думал: их будущее предсказать нетрудно. Со многими встречался он, среди них были аналитики, социологи, экономисты, атомщики, радетели о праве народов, политиканы и чиновники «по связи с общественностью». И все они — отродье дьявола. И это отродье было его публикой, оно посещало его концерты! Кюренберг закрыл окно и спросил Зигфрида:
— Вы знаете слова блаженного Августина о музыке? «Окончив дневные труды, великие люди предаются музыке для восстановления души».
Нет, Зигфрид не знал этих слов. Он не знал и Августина. Какой он невежда! Сколь многих знаний не хватает ему! Он покраснел.
«А те, кого я знаю, разве они великие люди? — спрашивал себя Кюренберг. — Если нет, то где же они, эти великие люди? И есть ли у них душа, которую можно вечером восстанавливать музыкой? И знавал ли Августин великих людей? А те, кого, быть может, он считал великими, разве они считали его самого великим? Сколько вопросов!» Кюренберг высоко ценил дарование Зигфрида. Он ждал от него чего-то необычного, ждал, что тот заговорит на языке, никому не ведомом. Быть может, этот его язык для обычного слуха, отставшего от быстрого бега времени, и прозвучит ужасно, но это будет новое слово. Новая весть для горсточки людей, способных услышать эту весть. Они ли те великие люди, о которых говорил Августин? Мы рвемся к знанию, даже если оно делает нас несчастными! Кюренберг смотрел на Зигфрида дружелюбно и очень серьезно сказал:
— Не знаю, для кого вы пишете вашу музыку. Но мне кажется, что ваша музыка все же имеет какое-то назначение в мире. Может быть, непонимающие освищут вас. Но никогда не давайте сбить себя с пути, не подделывайтесь под чужие вкусы. Пусть публика разочаруется. Но вы должны разочаровывать ее из смирения, не из гордости! Я вовсе не советую вам удаляться в пресловутую башню из слоновой кости. Ради бога, не жертвуйте жизнью во имя искусства, идите на улицу. Слушайте голос дня! Но оставайтесь одиноким! К счастью, вы одиноки. Оставайтесь одиноким и на улице, как будто вы находитесь в уединенной лаборатории. Экспериментируйте, экспериментируйте со всем, что вам встречается, со всем великолепием и всей грязью нашей жизни, с ее унижением и ее величием — и тогда, быть может, вы откроете новое звучание.
И Зигфрид представил себе разные голоса, голоса улицы, он представил себе голоса грубости, страха, муки, жадности, любви, добра, молитвы, представил себе звук зла, шепот распутства и вопль преступления. И сказал себе: «А завтра Кюренберг заставит меня подчиняться ему и будет строго поучать законам гармонии; он прославленный дирижер, он верно читает ноты — быть может, садовник, который все подстригает, а я — дичок или сорная трава». И Кюренберг сказал, словно угадав мысли Зигфрида:
— Я верю в нашу работу. Во мне есть противоречия, есть противоречия и в вас — одно другому не противоречит.
Противоречива была и жизнь, в которую они были вовлечены, и они сами были в противоречии с родом человеческим…
Юдеян почувствовал, что за ним наблюдают, и отступил. Он отступил, втянув квадратную голову в плечи, — бегство или тактический прием? — так отступает патруль на ничейной земле между двумя фронтами, когда ему кажется, что его обнаружили. Бегство или тактический прием? Ни один выстрел не грянул, ни одна ракета не озарила ночь, еще притаилась где-то судьба, но уже ползешь, ползешь назад, ползешь через проволоку и кустарник, назад в свои окопы, и на мгновение кажется, что укрепления противника неприступны. Так отступает и убийца, затравленный преступник — в тень, в джунгли, в гущу домов, — когда чует приближение ищеек, когда ощущает на себе зоркий взгляд полицейского. А грешник бежит от лица господня. Но тот, кто не верит в бога и кому не дарована милость чувствовать себя грешным, куда бежать ему, минуя господа? В какую пустыню? Юдеян не знал, кто за ним следит. Он не видел наблюдателя. В вестибюле был только священник. Рим и так кишел этой братией; священник стоял, словно окаменев, и, так же как Юдеян, смотрел не отрываясь сквозь прозрачное стекло двустворчатой двери и созерцал стол и сидевшую вокруг него оживленную компанию, которая пила и веселилась. То был стол для завсегдатаев-немцев, накрытый по всем немецким правилам и закрепленный за немцами именно на этом градусе южной широты, закрепленный случайно и временно; строго говоря, кроме дерева и стекла, ничто не отделяло Юдеяна от его свояка Фридриха-Вильгельма Пфафрата, но тот сидел себе спокойно на месте — независимо от того, занимался ли он болтовней здесь, или в отеле, или дома, в кресле бургомистра, он всегда сидел спокойно на месте, а Юдеян всегда храбро шел вперед, смело и слепо шел вперед с девизом: «Бог мертв!» Юдеян достиг большего, больше преуспел, чем бюргеры там, в зале, но это они позволили ему достичь успеха. Они чужими смертями поддерживали его возвышение. Они развязали кровавую бойню, они призвали его, они его разожгли; весь мир принадлежит мечу; они ораторствовали: «Нет смерти прекраснее, чем смерть на поле брани», они надели на него впервые военную форму и подобострастно гнули спину перед той новой формой, которую он сам себе добыл, превозносили все его деяния, ставили его в пример своим детям, они кричали «хайль!» и мирились с убийством, смертью и трупным запахом, стоявшим над Германией, а сами продолжали сидеть за столом завсегдатаев в старогерманской пивнушке; пышные фразы о Германии не сходили у них с языка — фразы, выхваченные из Ницше, даже слова фюрера и розенберговский миф были для них всего лишь фразой, которой они упивались, а для Юдеяна это был призыв к действию, и он устремился вперед: маленький Готлиб хотел изменить мир, глядите-ка, он вдруг оказался р-революционером, хотя сам ненавидел революционеров, приказывал истязать их и вешать; дурья голова, глуп он был, этот маленький Готлиб, обожавший розгу, маленький Готлиб, который так боялся порки и так жаждал пороть других; бессильный маленький Готлиб, словно паломник к святыне, шел к власти, а когда достиг ее могущества и смог заглянуть ей в лицо, увидел смерть. Власть была смертью. Только смерть была всемогущей. Юдеян не испугался, он с этим примирился, ибо маленький Готлиб всегда предчувствовал, что в этом мире неограниченную власть имеет только смерть и для подлинного Ощущения власти нужно лишь одно — убивать, только это вносит ясность. Никакого воскресения не существует. Так Юдеян стал служить смерти. Он рьяно служил ей. Это отдаляло его от бюргеров, от восторженных поклонников красот Италии, от туристов, осматривающих поля былых сражений; ничего у них нет, у них есть только Ничто, и ничего, кроме этого Ничто, они жиреют в этом Ничто, преуспевают в этом Ничто и наконец уходят в Ничто, становятся частью его, чем, собственно, и были всегда. Но он — нет, у Юдеяна своя смерть, и никому ее не отнять. Разве что священник попытается украсть ее. Но Юдеян не даст себя обокрасть. И священников можно убивать. Кто он, этот чернохвостый? Прыщавый юнец, с бледным от бессонницы лицом, комок преющей похоти в бабьем балахоне. Священник тоже смотрел на сидящих за столом и, казалось, тоже с ужасом. Но он для Юдеяна не союзник. И бюргеры, и священники были Юдеяну одинаково противны. Он понял, что позиция бюргеров сейчас неуязвима. Но время работает на него, поэтому лучше вернуться в пустыню, снова муштровать там новобранцев, готовить их для смерти, и только тогда, когда надо будет не осматривать поля сражении, а распахивать их снарядами, Юдеян снова двинется в наступление.