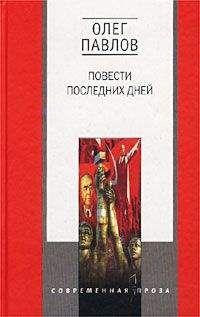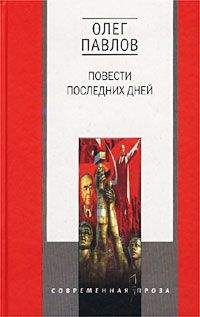Олег Павлов - Дело Матюшина
– Дай попить! Оставь водички!
Глотку сдавило, но глухо, будто простыла. Он оглянулся – оборвыш вмиг исчез, спугнули его. Глядя в жестянку – чудилось ему, полную еще до краев, – Матюшин заставил себя сделать это одно движение, отдать ее в чьи-то руки. Жестяночка шумно, радостно переходила от человека к человеку и затерялась.
– Вода, вода! – слышалось все глуше Матюшину. – Вода! Вода…
Звеня связкой ключей, будто осеняя ею серый каменистый двор, пришла хозяйкой животастая, крепко сбитая женщина в белом нечистом халате – и принялась орать. Успокоилась она, когда разогнала всех мародеров. Ей нравилось показать свою строгость приезжим. Махая у лица связкой ключей, отмахиваясь со звоном от мух, она покрикивала у отпертого барака:
– Будет вам банька! Вот попарю вас, блядских детей!
Всех новоприбывших столпили, собрали, а потом сказали заходить в этот барак. Из предбанника кисло дыхнуло квасом. Будто спускаешься в погреб. Холод меленько, ощупываясь, пробирал по коже. Было пусто и гулко. Вдоль стен тянулись низкие лавки, насест из досок. Женщина, не иначе завхоз или завскладом, а может, банщица, чуть отдышалась у порога и нагрянула, заполняя все собой:
– Все с себя сымайте, скидывайте! Все до голых мест скидывайте. Так что без трусов! Оно вам не будет нужно, что нужно, то выдадут.
Раздевались, сидя в тесноте, а иные стоя, потому что на всех не хватило лавок. Толкались, терлись друг о дружку. Одежку не складывали, потерянно сбрасывая прямо под ноги, и кто стоял – уж голые, топтались на ней, подле сумок и мешков. В предбаннике стало от наготы будто и душно. Женщина глядела бодрыми хмурыми глазами, тяжело дышала и вскрикивала, когда замечала, что кто-то прячется от ее глаз:
– Ишь, гоголь! Да я столько мужиков видела… – И уж рыскала глазами по полу, где стелились цветастые вещи.
Что-то углядела, шагнула, обернулась задом, нагнулась, так что вздулась огромной пуховой подушкой, а из-под задратого халата вывалились пышные, круглые, что груди, телеса. Но вспорхнула пушинкой и обратно приняла форму, только послышалось надсадное, даже и тихое:
– Татьяна, не трожь.
Окликнул ее худой, невысокого роста человек, неприметный, в казавшейся изношенной офицерской рубашке, что остановился на пороге.
– Да уж, Сергей Львович, вы сразу… Да ничего я там не взяла… – заохала по-старушечьи женщина.
Офицер посторонился, ничего не говоря, встал сбоку у стены. Показались солдаты, но в белых исподних рубахах, точно и не солдаты, а поварята, увешанные бубличными связками свеженьких сапог, тащущие на животах охапки портянок да трусов, связки новеньких ремней, тряпичные ворохи. Вносили все впопыхах – и складывали кучами, куда приказывал офицер, то и дело будто звавший жалобно:
– Коновалов, а подшивочный матерьял?
– Да есть на всех… – отвечало ему из толкотни гудение.
– Коновалов, а табуреты где?
– Твою мать, Измаилов, урою, где табуретки?! – взывало то же мужиковатое гудение.
Солдаты рылись молчаливо в своих кучах, занявшись тут же и брошенной гражданской одеждой, сгребая все для начала прямо из-под голых людишек.
– Коновалов, давай начинай…
Откуда-то появился табурет, и, раздевшись до трусов, чубастый солдат посадил на него первого человека. Встал ему за спину, схватил пятерней шею, как в клещи, а другой рукой заработал, сжимая и разжимая, машинкой. Тот сидел на табуретке, голый, точно труп, волосы сыпались из-под лязгающей машинки на его тело. После острижки, непохожий сам на себя, обреченный, он стоял у всех на виду, потому что от него пугливо отступились, и спросил, надо ли брать свое мыло с мочалкой. Но этот солдат, Коновалов, взял его молча за руку, подвел к дверке, распахнул ее, оттуда дыхнуло на них гулом да паром – и пнул дураком, всем на смех, в парилку.
Солдаты хозяйственной обслуги да и сам офицер, который долго выглядел напряженным вдобавок к болезненной худобе, как будто ослабились и занялись каждый своим делом. Солдаты неторопливо разбирались с амуницией. Женщина вертелась рядышком, подле тех вещей, которые отпихивались тайком, как годные для носки. Офицер не примечал этого. Солдаты ее прижимали, не давая ходу, когда тихонько подминала собой вещицу, но толкалась и она локтями, покуда не выдерживала и запросто у них из-под носа не хватала. Те обозлились, стали орать:
– Куда рубаху потащила? Ты, сука жадная, возьмешь, потом по кругу выдерем!
– Ах вы, развыехивались! – отлипала она скорей от вещицы и громко возмущалась: – И не стыдно, я ж вам в матери гожусь? Ну, подобрала рванинку, ну, думала, ненужная вам, вот придете ко мне, мыльца-то попросите!
– Подавись своим мылом, у нас у самих полно! Вона ненужная валяется, а в эту кучу не суйся.
Но, выгадывая случай, выхватывала она в банной суматохе из этой кучи и прятала за пазуху. И уж скоро у нее вырос под халатом ком. И, пройдясь вразвалочку подальше от солдат, подсела она украдкой к офицеру, вздохнула, положила руки на взбухший живот, и лицо ее вытянулось от покоя.
– Нахапала? – устало сказал офицер.
– Где там, разве самую малость, думаю, может, халат пошью из тряпочек…
– Заму по тылу скажу, чтоб увольнял тебя, надоела ты мне воровать.
– Увольте, Сергей Львович, поделом мне, обворовала я советскую армию, сама без подштанников хожу… Вы вон здоровье надорвали, я извиняюсь, а уволят и вас без штанов…
Предбанник пустел. Достригали. Коновалов работал даже не с усердием, а с любовью. Так любил он машинку, будто свою дочку, называя засерей, когда выдувал и утирал, справившись с еще одной головой. Из парилки доносились шум воды, гул голосов, которые глушило неожиданно безмолвие. Кто-то уже выскочил из парилки, мокрый с головы до пят и красный, будто только народился на свет, и вставал в очередь к солдатам, получая сверху донизу всю амуницию.
Матюшин давно ждал своей очереди. Его настигла теперь и била похмельная голодная дрожь, но дрожал он так, будто ожидал суда за все, что было в беспамятстве содеяно. Все у него было отнято, и чудилось теперь, что и дома нет, что и место родное отняли – и только могут убить. И он с дрожью той голодной думал: за что же меня? Ведь нужен я кому-то, ведь родился жить, как и они, пускай им станет дорога моя жизнь, пускай пожалеют…
И вот все будто растворилось, а он сидел в углу, голый, но будто и обрубок, без рук, без ног. Табурет пустовал. Солдат Коновалов обернулся с машинкой в руках. Он ждал, кто сядет, а потом обернулся, не дождавшись.
– Чего насиживаешь, как на жердочке? – Но окрик его не заставил Матюшина подняться. – Шагай сюда, чудила… – удивляясь, простодушно уж позвал Коновалов.
Но вдруг прозвучало, будто гулкий всхлип мокроты:
– Не пойду.
Стало тихо, и все бывшие в предбаннике посерьезнели. Один Коновалов сокрушенно опустил руки.
– Да как же это?.. Вот чудо… Стричься садись, я сказал!
– Не буду.
И вот поворотился офицер, лицо его было равнодушно, глаза полнились тоской и скукой.
– Да он пьяный… – пригляделся нехотя. – Рожа пьяная…
Но вдруг офицера затрясло от хохота, будто пронзила своя же мысль: что человек мог столько времени оставаться пьяным, не протрезветь, а может, и не понимал до сих пор происходящего. Потом и все солдаты, и женщина, и Коновалов засмеялись, выпучивая до слез глаза, не в силах уняться. И никто не заметил того, что офицер уж не уморялся со смеху, а, задыхаясь, кашлял, корчился, харкал в кулак. Матюшин только на него и глядел, им-то затравленный, и все это происходило на его глазах, когда офицер сломился, давясь уж не смехом, а кашлем, сжимаясь в трясущийся комок, – и опрокинулся ничком с табуретки. Тогда спохватилась первой женщина, бросившись его подымать. Офицера подхватили, усадили на место, и он беззвучно дергался, затихая, скрученный солдатскими руками. Ему еще не хватало воздуха, разинутый рот чернел дырой, алые губы обвисли, а он что-то силился проговорить. Губы напряглись и обмякли, будто надорвались, слова оказались тяжелы.
– Вот так… – смог он проговорить, силясь обрести прежний серьезный облик. – Вот так… Кху-кху… Что надо, чего ждете? Коновалов… Кху-кху… – И кивнул, будто боднул головой. – Давай этого, хватит…
Матюшин еще не очнулся от увиденного. Но когда ринулся раздосадованный Коновалов и схватил его могуче за волосы, тогда он остро себя ощутил, то есть боль свою: голый, полз на карачках, уползая от боли и видя все до рези ясно, даже выщербины в черном глиняном полу, слыша над собой пыхтение тяжкое Коновалова, точно сам и пыхтел. Тот протащил Матюшина по предбаннику, может, не соображая от ярости, что с ним сделать. Но Матюшину вдруг стало все равно, куда его уволокут, что с ним захотят сделать. Он только изнывал, чтобы все скорее свершилось.
Боясь, что нестриженный освободится, вырвется, Коновалов придавил его голову к табуретке, будто умывал силком в тазу. Но придавил коленом, так что и самому сделалось неудобно лязгать по ней машинкой, и кулак его стригучий шерстенел, обрастал комом сбритых волос. Офицер прятал глаза, успокаивался. Солдаты злее выдавали белье, а отмывшийся народец, которого все прибывало, становился в очередь и молчал. Женщина забылась от расплывшейся по душе истоме и глядела участливо на Коновалова, любуясь красотой: как он замер, склонившись над работой, и все тело его изогнулось, отчего явило как бы потаенную нутряную силу – покрылось мышцами, будто ознобом, и напряглось, сделавшись твердокаменным. Матюшин мерно хрипел, добывая воздух, так и не поднимаясь с колен, вдавленный щекой в табуретку, и шарил невидящим, пустым взглядом по толпе полуодетых, полуголых людей, которых то ли восхищал, то ли пугал.