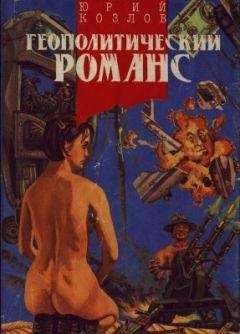Генрих Бёлль - Ангел молчал
— Я страшно замерзла, — сказала она и залезла в постель, сдвинув в сторону одеяла.
— Может, стоит открыть окно? — тихонько спросил он. — На улице уже совсем светло.
— Нет-нет, — поспешно возразила она, — оставь так.
Ганс подошел к своему ложу, натянул носки, накинул на плечи плащ, все еще лежавший на столе, и присел на ее кровать.
Он еще раз сильно затянулся сигаретой, почувствовал, что голова начала кружиться и подступила тошнота, погасил сигарету и сунул окурок в карман. Ему так хотелось расспросить ее о тысяче вещей, но он не мог выжать из себя ни слова. Он посмотрел мимо нее в нишу окна, увидел там стол, заваленный платьями и всяким барахлом, слева от стола — шкафчик, на котором стояла грязная посуда и валялось несколько нечищеных картофелин. Тут только до него дошло, что он зверски голоден. Все его нутро словно свело судорогой, она подступила к горлу, и ему уже казалось, что пустой желудок у него бесконечно растягивается.
— Нет ли у вас… Нет ли у тебя немного хлеба?
Она взглянула на него, и этот взгляд опять ранил его, как удар сплеча. Ему почудилось, будто он падает назад, а его одновременно тянут вперед…
— Нет, — отрезала она, почти не разжимая губ. — Хлеба у меня нет. Но если он появится, принесу попозже…
Он пересел чуть подальше, чтобы можно было прислониться к спинке кровати, и вдруг услышал свой собственный голос, спросивший:
— Можно мне остаться у тебя? Я хочу сказать — на какое-то время… А может, навсегда?
— Да, — тотчас ответила она.
Они вновь смотрели в разные стороны. Но теперь она вынула руку из-под затылка, натянула одеяло на плечи и отвернулась к стене…
— Можешь остаться у меня, — опять заговорила она. — Мужа у меня нет, и ждать мне некого… У меня был… Год назад я жила с одним человеком. Мой ребенок был от него. Я его не знала как следует, даже не знала, как его настоящее имя… Просто он обращался ко мне на «ты», и я тоже говорила ему «ты», вот и все. А у тебя, у тебя-то ведь есть жена, верно?
— Нет. Она умерла.
— Но ты часто о ней думаешь?
— Да, я часто о ней думаю, даже очень часто. И сильно грущу, но не потому, что любил ее и что мне ее теперь не хватает, — нет-нет, совсем не поэтому, не думай. Причина совсем другая…
Он откинулся назад, лег поперек кровати, чтобы упереться головой в стену, и заметил, что она подобрала ноги, освобождая ему место. Она внимательно смотрела на него и, когда он вытащил окурок из кармана, кинула ему коробок спичек.
— Да, причина совсем в другом, — продолжил он. — Грущу я потому, что совсем не успел ее узнать и что ее уже нет, а я так и не сказал ей что-нибудь ласковое. Я не был с ней ласков. Венчание было убогое, все прошло кое-как, люди дрожали от страха — боялись воздушной тревоги, да и холодно было в церкви, — из огромных готических окон заранее вынули витражные стекла, сквозь отсыревшие куски толя страшно дуло, и в нефе царил грязноватый сумрак. Вечный огонь у алтаря то и дело клонился набок и шипел, люстра качалась на длинной железной цепи, свешивавшейся с крюка на высоком сводчатом потолке. Священника пришлось ждать почти полчаса, и эти полчаса показались мне вечностью, я умирал от тоски, уперев глаза в жирный бритый затылок моего тестя, — отвратительный кусок мяса, которого я раньше и в глаза не видел. Потом появился священник, хмурый парень, наскоро накинувший поверх рясы стихарь…
Помолчав, Ганс загасил окурок и спрятал его в карман.
— Через десять минут мы были обвенчаны. Все присутствовавшие нервничали. При малейшем шуме, врывавшемся в однообразное завывание ветра, при трескотне мотора, сигнале проезжающей мимо машины или скрипе тормозов трамвая на углу все как один вздрагивали и были готовы сорваться с места.
Он взглянул на нее и вздохнул.
— Дальше, — сказала она.
— Придя домой, мы увидели телеграмму на мое имя, приказывавшую немедленно вернуться на Восточный фронт. Я не пробыл дома и полчаса и уехал, хотя… Хотя мог бы остаться на сутки.
— Ты так и не побыл с ней наедине.
— Почему же, побыл, — возразил он. Потом опять умолк и взглянул на нее. Она кивнула ему, чтобы продолжал. — Она приехала ко мне два месяца спустя, когда я лежал в госпитале после ранения…
Воспоминание об этой единственной ночи возникло вдруг так явственно, что ему не захотелось о ней рассказывать и стало ясно, что он никогда не будет об этом говорить. Он наклонился вперед, оперся локтем о край кровати, повернулся спиной к женщине и уставился невидящим взглядом в стену, на которой четко высветился треугольник между ставнями, уже поднявшийся почти до половины дверной филенки.
В ту ночь он видел под собой пробор в ее волосах — узенькую белую тропку на темени, чувствовал кожей ее грудь и ее теплое дыхание на своем лице, и глаза его погрузились в бесконечную даль белой узкой дорожки ее пробора.
Где-то на ковре валялся его пояс с четкой выпуклой надписью на пряжке: «С нами Бог!» Еще где-то — китель с грязным подворотничком, где-то тикали какие-то часы…
Окна были открыты, и снаружи, с террасы, доносился нежный звон тонких бокалов, тихий смех мужчин и хихиканье женщин, небо было светло-голубое, а летняя ночь великолепной.
И он слышал, как бьется ее сердце так близко от его груди, а взгляд его то и дело устремлялся вниз по узенькой белой тропке ее пробора.
Было темно, но небо все еще светилось мягким летним светом, и он понимал, что был ей сейчас так близок, что ближе и быть невозможно, и тем не менее — бесконечно далек от нее. Они ни о чем не разговаривали, никто из них не упомянул ни день свадьбы, ни обряд венчания или час расставанья два года назад, когда он попросил ее прийти на вокзал…
Он чувствовал, что тиканье часов отрывало его от нее, тиканье часов было сильнее, чем удары сердца у его груди, — он уже не различал, чье это сердце билось — его или ее. Все это называлось: увольнение до побудки. Другими словами: переспи еще разок с кем-нибудь. Поэтому и пришлось завести будильник и получить разрешение взять с собой бутылку вина.
Сейчас он явственно различал в темноте эту бутылку — она стояла на комодике и казалась узенькой полоской света. Эта полоска света, то есть бутылка, была пуста, и на ковре, где лежали китель, брюки и пояс, должна была валяться и пробка от нее…
Потом он обнял ее одной рукой, держа в другой зажженную сигарету. Они не сказали друг другу ни слова, все их свидания были отмечены этой немотой. Он раньше всегда считал, что когда-нибудь сможет свободно разговаривать с девушкой, но эта ничего не говорила…
Небо за окнами все темнело, смех курортников на террасе угас, женское хихиканье сменилось зевотой, а чуть попозже он услышал более громкое звяканье бокалов — это кельнер захватывал их по четыре-пять штук в руку и уносил прочь. Потом унесли и бутылки — звук был более низкий и сочный, под конец сняли скатерти, составили друг на друга стулья, сдвинули столы. Он услышал, как уборщица долго и очень тщательно подметала пол: казалось, вся ночь состояла лишь из движений щетки в руках этой невидимой и очень добросовестной женщины. Она делала свое дело почти бесшумно и совершенно спокойно, ритмично и легко; он слышал шарканье щетки и мысленно видел, как эта женщина движется от одного конца террасы до другого. Потом раздался усталый испитой голос, спросивший из открытой двери:
— Еще не кончила?
И женщина ответила так же устало:
— Да вот, заканчиваю…
Вскоре после этого за окнами все затихло, небо стало темно-синим, и откуда-то издалека все еще глухо доносилась музыка.
А часы тикали. И с каждой минутой, что уходила в вечность, он все больше удивлялся, что еще жив. И все так же на комоде стояла пустая бутылка — едва заметная блеклая полоска во мраке.
Женщина, лежавшая рядом с ним, вдруг испуганно вскинулась и посмотрела ему в глаза. Она была очень бледна, лицо осунулось, глаза в этой бархатной темноте казались огромными, а темно-русые детские кудри делали ее совсем молоденькой. Она поглядела на него отчужденно, почти враждебно, потом закрыла глаза и взяла его руку в свои…
Так они лежали рядом, пока не рассвело. Винная бутылка медленно выплыла из черноты — светлая полоса, становившаяся все шире и ярче, а потом обретшая и округлую завершенность. Стали видны валявшиеся на полу китель с грязным подворотничком и пояс с четкой выпуклой надписью на пряжке «С нами Бог!», аккуратным кольцом окружавшей государственный герб со свастикой…
Покуда он думал обо всем этом, упершись взглядом в стену, световой треугольник поднялся еще сантиметров на пятнадцать и стал желтым, ярко-желтым, так что Ганс решил, что время подошло к восьми часам. Он резко обернулся, услышав скрип пружинного матраца, и увидел, что она встала с кровати, босиком подошла к столу, придерживая полы пижамы, собрала в охапку набросанную на него одежду и прочие вещи и, перекинув все это через согнутую в локте руку, пошла было к двери, но остановилась подле него, сунула ноги в туфли и тихо спросила: