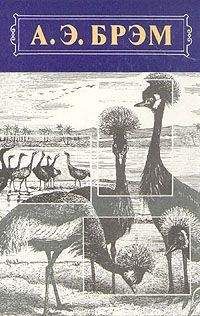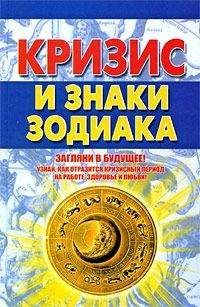Виктор Смирнов - Заулки
— Подорожника добавить.
— Хороший свищ ничему не поддается. На всю жистянку — как орден.
— Не скажи, орден и отобрать прокурор может…
Гвоздь, одним ухом прослушивая болтовню «Полбанки» и время от времени высверливая взглядом сидящих, настроился на тихую застольную беседу. Он принял «паек № 2», близкий к норме Марьи Ивановны, и настроен мечтательно. На более высокую дозу Гвоздь решается очень редко, потому что становится злобен, вспоминает погибших ребят, бранит свою неудавшуюся жизнь, рвется мстить кому-то, устанавливать всеобщую справедливость. Если уж у Гвоздя наступает срыв, он исчезает из глаз и отлеживается у себя на раскладушке, чтоб не терять авторитет в павильоне. Гвоздя этим не корят, лишь больше уважают за выдержку и геройство. Каждый из завсегдатаев «Полбанки» понимает, каково это — гудеть с зубовным скрипом наедине, под взглядами матери и сестры, под крики несмышленышей близнят. Ну и ждут его зато! Как из морского рейса. Он и в самом деле возвращается словно из дальних стран — что он там видел, с кем здоровкался, с кем прощался, никому не знать. Прилипалы-шестерки, увидев его, прыскают из «Полбанки», как блохи от костра. Гвоздь твердо стоит на том, что человек с руками, ногами и с головой должен сам себя поить и кормить — если его, конечно, не зовут к столу сами хозяева. Угощают только равные равных. Щедрые фронтовики сами развели прилипал, изображающих усердных слушателей и друзей. Но при Гвозде прилипалы обходят стороной этот ресторан третьего разряда.
Сейчас Гвоздь бубнит, полуприкрыв глаза:
— Ох и жизнь будет, Студент! Вот гляжу я на этих ублюдков близнят, думаю, повезет же вам. С ванной будете жить, образованные, и все такое… И вообще деньги скоро отменят. Гляди, каждый год снижение цен. Соображаешь, к чему дело идет?
— Ты чего, Гвоздь? — тихо спрашивает Инквизитор. — Пела Дуня про успех, а была одна на всех. Про заем забыл? На сколько снижают, на столько забирают. Ты свою месячную зарплатку каждый год отдаешь за облигации. Ты им сальдо, они тебе бульдо — и квиты.
— Закрой патефон, — бросает Гвоздь, почти не шевеля губами, как только настоящие фронтовики умеют, те, что не раз лежали вплотную к противнику. — Придет время — обязательные займы отменят. Ты мне парня не сбивай, его еще жизнь сбивать будет. Молодежь распоясать недолго.
Он молчит какое-то время, злясь на Инквизитора, с его языком.
— Я ему глаза не закрываю, — говорит он, кивая в сторону Студента. — Сам знаю, почем дурость обходится. Но про будущее он мечтать должен, не то вырастет, как хмель без нитки. Не поднимется ввысь. Ничего вокруг не увидит. Ты смотри, как народ окреп, себя осознал. Думаешь, на рейхстаге расписаться — это просто так пройдет?
— Ох-хо, — вздыхает Инквизитор. — Русь ты моя кабацкая! Общего рая жаждет, а вином утешается, дворцам радуется, в землянках живет.
— Цыц! — еще более насупленно говорит Гвоздь. — Ты, Инквизитор, с производством не связан, дело у тебя легкое, не видишь, чего надо. Сильно мы поднялись, сильно. Война много разорила, но много и науки. Мы вот сейчас новый грузовик ЗИС варганим — не хуже «студера». Даже покрепче. Движок еще бы посильнее — но это будет. Народ крепко работает. Ну, а чего ныть? Ныть — в штаны лить. Ты в него хорошее вкладывай, — кивает он на Студента. — А дерьмо в него само собой вкладывается.
— Резонно, — соглашается Инквизитор. — Тебе, Гвоздь, с твоими способностями, вверх идти надо бы.
— Верховодов и без того теперь много разводится, — бурчит Гвоздь. — Вверх — не в атаку. И где они отсиживались? В цех без конца прибегают:«давай, давай!» Сегодня един такой был, — Гвоздь понижает голос. — Давай авральную неделю в честь дня рождения самого. Ну, мы, конечно, дадим. Вроде подарок, надо. Уважение! Ну, а эта канцелярская душа здесь при чем? Он что даст?
***
Вечер в «Полбанке» идет к закату. Уже отныл и удалился, шатаясь от вина и потерянной любви, Слюнтяй, уже двух-трех полуслучайных Арматура вывел на мороз отдохнуть, уже обо веем, кажется, переговорено — и боевые недавние дела перебрали, которых столько припасено в памяти, что, кажется, всю жизнь теперь только и вспоминать, и все семейные неурядицы перещелкали и разрешили до нового вечера, когда жизнь подбросит ворох новых, неожиданных, и дважды или трижды выносил Сашку-самовара Инженер, и за это время кто-то увел Люську, оставившую полстакана красненького — словно бы нарочно, для напоминания и зубовного скрежета Сашки, и в этот-то момент дверь, обитая по краям старым войлоком для теплоты, открывается — и холодок сразу прохватывает павильон. На пороге, вглядываясь, держа руки в карманах бушлатика, с белым шелковым шарфом, высоко повязанным на шее, стоит Чекарь, а над плечам Чекаря проглядывает ангельское личико Зуба, одного из шестерок. Осмотревшись, Чекарь здоровается, но не как все, глядя в угол Гвоздя, а бросает небрежно, словно бы не разбирая лиц. Он проходит к стойке Марьи Ивановны, и, резко обернувшись, стоит, уперев локти в доски стойки, и глядит в павильон, пока Зуб берет у Марьи Ивановны стаканы и выбирает из вазочки шоколадные конфеты получше. Чекарь любит сладкое.
Гвоздь темнеет лицом и стискивает пальцы. Чекарь — глава инвалидных урок, хозяин всего здешнего блатного мира, но у «Полбанки» особое положение, и Чекарь над ней не властен. Серьезная публика подобралась в павильоне, воевать с нею ему ни к чему. Димка видел Чекаря раза два-три, но лишь теперь может рассмотреть его внимательно. У первого инвалидского урки самая заурядная округлая физиономия, пожухлая от жизни, с сеточкой ранних морщин, положенные по моде фиксы во рту, твердые голубенькие глазки под козырьком кепки, — но как преображает человеческие лица осознание силы и власти! Соблазном преступной беззаботности и веселья веет от Чекаря, и невольно каждый поглядывает на его поблескивающие в свете голой лампочки под дощатым потолком стальные зубы.
Павильон по-прежнему гомонит, но разговоры чуть пригасли и текут нарочито вяло, как вода в старице. Чекарь просто так, от нечего делать, никуда не заходит и бесцельно по барачному городку не шляется. Арматура на всякий случай начинает колоть дрова для печки, хотя скоро уже наступит час закрытия и подтапливать ни к чему. Но Арматура коротко взмахивает топориком, щеплет лучинку, н Чекарь бросает быстрый взгляд на отполированное работой лезвие топора. Неожиданно улыбается, открыв крепчайшие ровные и крупные зубы, нелепо соседствующие с металлическими коронками.
— Хорошо тут у вас, — говорит он. — Забежал погреться. У вас не как у других.
Он говорит чисто, без всяких словечек, хотя известно, что Чекарь «ботает по фене» лучше всех прочих в столице и даже сам вводит в обиход словечку служащие для отличия истинно своих. У него мягкий акающий говорок: говорят, он настоящий москвич, из Марьиной рощи, давшей столице столько приметных урок. Димка с чувством ужаса и какого-то непонятного восторга смотрит на Чекаря. В его наивную студенческую душу постепенно закрадывается чувство во тревоги и беды. Нет, так просто Чекарь никуда: не заглядывает. Гвоздь сидит сжавшись, словно бы, готовый к знаменитому своему броску, резкому и неожиданному, как у дикого кабана, который вмиг способен из неповоротливой туши превратиться в пушечный снаряд. Гвоздь поддерживает с окрестными урками мудрый и осторожный нейтралитет, но ненавидит их люто, зверино, злобно, всей глубиной непонятной, так и не раскрывшейся для Димки души. За этой ненавистью стоит нечто такое чего Димке, кажется, никогда не узнать, так глубоко упрятано это в Гвозде. Даже фашистов, кажется, он ненавидел не так люто. К фашистам у него была боевая, деловитая, рассчитанная ненависть. Всем существом своим Димка ощущает, как сталкивается в воздухе волна этой ненависти с чувством превосходства в силе и хитрости, которое исходит от облокотившегося о стойку Чекаря. Еще бы, за ним целая свора. И от этого явственно ощущаемого Димкой столкновения предчувствие беды крепнет. Не сегодня случиться ей и не завтра. Но эти двое не могут ходить по одной земле. Чекарь медленно отлипает от стойки и, след в след сопровождаемый Зубом, подходит к столику Гвоздя. Однако смотрит он, улыбаясь, на Димку.
— Студент, — говорит он. — Я слышал, ты стихи классные сочиняешь. Почитай. Душа просит.
У Димки ухает в грудной клетке сердце. Ужас и восторг, сплетаясь, бьются в нем, и он немеет, чтобы скрыть хлынувшую к лицу кровь, которая, впрочем, так же быстро отливает горячим током куда-то к низу живота и дальше, к ногам. Сам Чекарь просит его почитать стихи. И хотя Димка дорого бы дал, чтобы Чекарь и вовсе не появлялся в павильоне, чтобы показалось все это нелепым сном, все же голосок тщеславия начинает звучать в нем громче и громче. Часа два просидел Димка в павильоне, выслушал мудрые наставления Гвоздя, переговорил о делах насущных с Яшкой-героем, Инквизитором, и никто не попросил его почитать. Привыкли. На каждый день нового не сочинишь, а старое знакомо. Но вот явился Чекарь и тут же выделил из темного угла Димку.