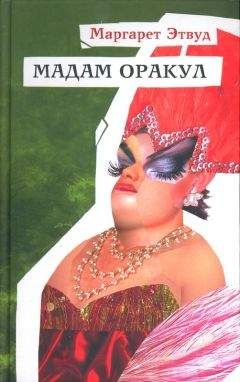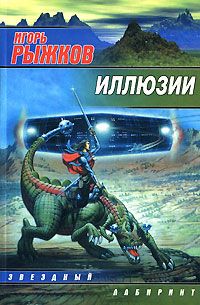Леонид Леонов - Пирамида. Т.2
И вдруг преобразившийся отрок впервые показал себя в неожиданном для своих лет развороте, а возможно, приоткрылся бы чуток и в программном аспекте предположительно-грядущего, кабы Никанор Шамин, с чьих слов излагается данный эпизод и по чистой случайности оказавшийся в пустующем соседнем помещении, не задел локтем, видимо, прислоненную к дощатой переборке, еще аблаевскую метлу.
Как быстро в умственном отношенье ни росли бы дети под воздействием угнетающей обстановки, в постоянном сознании своей гражданской неполноценности, остается вдвойне неприятный осадок от последовавшей затем тирады юнца, с помощью какой он отхлестал братца на прощанье, прежде всего феноменальным несоответствием юного же возраста и зрелости высказанных мыслей, смертный яд которых, как правило, получается в процессе броженья невыплаканных слез. Несомненная, проступающая местами сквозь пену загнанной ребяческой дерзости, порою ужасная глубина постиженья позволяет заключить, что за пайкой радиосхем мальчик Егор Лоскутов успел передумать не меньше, чем отец его за сапожным верстаком. Надо полагать, что, как во всех случаях долгого, вынужденного, почти тюремного молчанья, воспроизводимый ниже текст подвергся у него многократной мысленной прокатке, настолько плотно и слитно были пригнаны там слова.
— Вот видите, мамаша, к чему ваша самодеятельность привела, — ледяным учительным тоном вмешался Егор. — Что касается тебя, старший брат мой, то впредь воздерживайся от подобных рекомендаций, укрощай в себе Ненилу! Не думал же ты в самом деле, что подобный костерок мог бы кого-либо нынче образумить, усовестить? Опасаюсь, не дойдет ни до кого твой фортель. Времена не те, не те и люди. Извини, но я неудачный твой экспромт расценил как способ единым махом узел разрубить, так сказать, освободить родителей от привязанности к тебе, следовательно, и — материальных притязаний в дальнейшем... К такому за алиментами не потянешься! Но, чудак, бывают чувства, которые удаляются только вместе с сердцем... И такие операции, хотя бы во избежание смертных случаев, не следует отверткой совершать. Опять же, судя по наличию еды на столе, старики наши в полной рабочей форме да и мы с сестрой впрягаемся потихоньку... Словом, хотя все мы тут вроде бы погорельцы на российском пепелище, но не приговоренные пока. Так что покидать нас можешь с легким сердцем, без стеснительных для себя обязательств. И мы тебя не осудим. В бумажное наше время без диплома в пастухи не берут, а ведь тебе повыше захочется, Вадимушка? — и снизу заглянул ему в склоненное лицо. — Другое дело — много ли в таком счастье услады для взыскательной души, если к нему на карачках добираются. Да берегися, ведь не забудут про родимое твое пятно и в чем оно заключается... его и паяльной лампой не сведешь, разве только вместе с кожей спустишь. Мильон укради, дите убей — все простят, а про него в самую горькую, одинокую твою минутку припомнят, совместят и помилуют! Я твою безвыходность крепко понимаю, братец, но скажи, не приходило тебе на ум, что, еще до того как перестать быть, человеку дается выходная лазейка, состоящая в примиренье с неизбежностью, откуда и родится всякое геройство. Вдруг тебе все на свете нипочем, и самая боль становится ощущеньем жизни... пожалуй, страшнее силы нет. Что, ни разу не осеняло тебя в твоих мечтаньях?
— А тебя? — видимо, застигнутый на смежной мысли, странно усмехнулся Вадим.
— Меня-то осеняло... но я еще маленький, мне страшно, трусишка пока. Но и у меня по дороге туда есть порожек заветный: исчезнуть, потушиться, уйти, раствориться в тайге, жрать древесную кору, женьшень копать для вельмож мира сего, спуститься на ступеньку ниже — растеньем, зверем стать где-нибудь на отрогах Тянь-Шаня, затаиться в каменной глуши, шипом и зубом огрызаться из норы, когда придут на меня с облавой...
Дрожащей рукой, как ослепший, отрок потянулся было к чашке с квасом пересохшие губы смочить, но только расплескал и подальше сдвинул от беды. И с той минуты, подавленные никак не меньше жутью сказанного, чем если бы канарейка заговорила вдруг, прочие слушатели глаз не смели от него отвести, словно ждали чего-то еще худшего.
Не сводя от Вадима гипнотически-заблестевших зрачков, он шарил в себе идеальную, применительно к его конституции и точную, как слепок, формулировку общественного руководства, где прогрессивная устремленность, безотрывная от побуждений высочайшей нравственной гармонии, сочеталась бы с повседневной хозяйственной целесообразностью. По лицу было видать, уже нашлась отменная одна, да вроде не то пальцы жгла, не то из рук подобно тугой резине выскальзывала, никак в слово не ложилась... и вдруг отчеканилась сама собой в виде рациональнейшего, по тогдашней нехватке текстиля, декрета о всеобязательном возвращении вдовам пиджаков с расстрелянных мужей, чтобы, заштопав дырочки, перешивали для своих сироток, вынужденных терпеть стужу по причинам недовыполнения промфинплана. Получалось, что Егор одновременно с пощечиной приписывал честь запоздалого революционного открытия: дети не отвечают за вину родителей, внуки за дедов, неродившиеся за давно умерших. Пользуясь умилением родителей и размахавшись, Вадим заодно в тот раз подвергнул прогрессивной критике и другие уязвимые предметы из религии. Если сюда прибавить, что он еще стихи писал, в секрете даже готовил книжечку — тоже полтора слова в строке против слипания ценных мыслей, нередко наблюдаемого у классиков, то понятным становится положение баловня с дальнейшим переходом к обожествлению под залог великой будущности... Несмотря на мирный исход, состоявшуюся беседу надо считать первой трещинкой в дружной дотоле лоскутовской семье.
Следующая фаза назревающей размолвки обозначилась месяца два спустя, тоже за столом. С утра в тот славный, с морозным солнышком, денек о.Матвей отправился в баньку, но вместо обычной после таких походов благостной умиротворенности воротился к обеду в самом тягостном расстройстве духа, от еды отказался наотрез якобы по нездоровью. Лишь в ответ на встревоженные приставанья домашних и ни к кому собственно не обращаясь, поведал он омрачившую его бытовую сценку на базаре, куда по дороге домой зашел прикупить из-под полы кое-какой, по ремеслу, сапожной мелочишки. В проходе меж торговых ларей, отведенных для стоянки подвод, немолодой, заведомо не пьяный, с виду даже благообразный мужик изливал свой гнев на невесть чем провинившуюся лошадку, что и доставила его сюда с картошкой из ближнего Подмосковья. То была низкорослая кобылка, ко всему привычная колхозная труженица, и хотя тот сек ее по крупу сложенной вдвое колодезной цепью, особой кровки не было, только багровые вздутия проступили местами по разорванной коже. В общем же лошадка стояла ровно, не пытаясь увернуться от судьбы, правда — нераспряженная, подергивалось в такт ударам отвислое, сплошь в набухших жилах, подпругой стянутое брюхо. Случившиеся возле ротозеи, местное ворье и копеечные спекулянты, возвращавшиеся после уроков школьники, также заметно протрезвевшее от зрелища пропойное отребье в сосредоточенном молчании следили за ходом расправы без малейшей попытки вмешаться в происходящее злодейство — впрочем, не ради одного лишь самосохраненья, потому что в тогдашнем-то своем исступленье запросто и убить мог. Недружное глухое эх! время от времени, при свистящем взмахе, срывалось у некоторых с жестоко утончившихся губ. Однако не терзаемая кляча деревенская привлекала тайное сочувствие наблюдателей или, скажем, беспокойно переступавший по ту сторону ее жеребеночек, такая славная коняшка, с подвижным хохолком начинающейся гривки, а как раз сам он, нынешний хозяин ихний, судя по обильной проседи под сбившимся к затылку картузом, обеих войн солдат и, наверно, взрослых детей отец. Объединявшее их всех, обычное при казнях, простонародное раздумье сводилось к тому — какою только напрасною мечтою не самосжигается на свете человек и чего посредством нее достигает... В своей увлеченности о.Матвей всего себя вложил в рассказ, то и дело применяя живописные крестьянские обороты, с детства сохранявшиеся на донышке памяти, отчего событие в его устах приобретало некую символическую значимость.
— Пьяный, что ли? — не для себя, еще для кого-то справился Егор...
— Куды, в полной сухости, да и по обличью-то вроде и не зверь дикий, а послушали бы, родные мои, какими он словесами, под кажный стежок, Бога своего костерил! Вчуже сердце сжималось за горемычного, как он теми же устами пищу станет принимать... — как бы ни к кому не обращаясь, продолжал о.Матвей, машинально соринки сметая со стола, пока солонку рукавом на пол не смахнул, и таково было напряженье минуты, что, если даже и заметили, никто не посмел нагнуться за нею. — Не хаю народ мой, сам того же племени... Но отколе же, отколе, как не от безграничности нашей страшное наше размахайство повелося? А все оттого, что никакой преграды взору нет, степь, да небушко, да сорока на плетне... Ну, поневоле и взалчешь обо что-нибудь разбиться, огонька глотнуть али чего там и на свете нет. А уж там, с векового привязу сорвамшись, не то что нажитую копейку ай там дедовский сундук, самые внучатные пожитки спустим в пропой. Тут уж не подходи никто, зарубим... Нам тогда, раз что под руку попалося, ничего не жаль! Зато по прошествии сроков, ковшичком рассольцу душевное окаянство сполоснув, опять до нового загула кроткие да исправные становимся: кол на башке теши, все стерпим... Ах, желанные мои, как же он ее, несчастный, кормилицу свою хлестал!