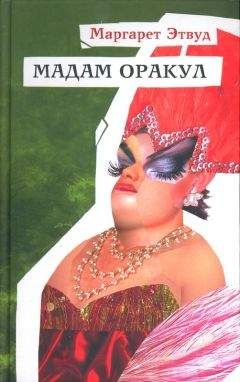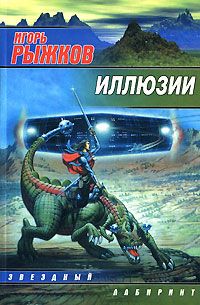Леонид Леонов - Пирамида. Т.2
— Подымитесь на ноги, мамаша, и не унижайтесь попусту... — весь пылая, подрагивающими губами отозвался разгулявшийся любимец. — И никогда раньше сроку не хороните: ничего вам за меня не приключится, раз я сам у ней на виду. Пусть полюбуется, как мы живем, если еще не насмотрелась! — и в довершенье как бы пальцем в красный угол погрозил, десяток длинных мгновений выстояв в каталептической прямоте. И хотя то был достаточный срок прицелиться в недвижную мишень, механизм небесного возмездия и впрямь не сработал почему-то.
Но тут Прасковья Андреевна в стремленье отвлечь на себя накликанные казни египетские, забормотала заумные речи да так убедительно, что старо-федосеевский батюшка им обоим вперебой и не с перепуга ли перспективой внезапного вдовства пустился в довольно странные для священника рассуждения — человеку не дано обидеть Бога, разве только огорчить маленько, затуманить печалью милосердный взор... Возможно, делал это не столько во вразумление супруги, чтобы пощадила себя, сколь на всякий случай, в косвенное напоминанье Всевышнему не применять небесную артиллерию в отомщение недоумку. Словом, такая поднялась шумиха, канарейка спросонок биться в клетке стала. И тогда очевидная необходимость прийти на выручку родителям вдохновила Егора прекратить недостойный, показательно-генетический лоскутовский парад, в котором лишь самой Ненилы не хватало. Намереньем его было помочь родителям унять своего брата, кстати, заметно отрезвевшего после первого же оклика. С непривычки он сделал это с излишним рвением, поэтому между братьями и вспыхнул ребячьего свойства идеологический поединок с неожиданной концовкой, как и у той, главной бури, чьим отголоском он являлся.
Осуществляемое в темпах беспримерной спешки преобразование не только многовековых общественных формаций, но и основных стимулов социального общежития, требовавшее вековой же рассрочки, сразу обнаружило свою историческую непрочность. Ломка древних фундаментов с выемкой наугад краеугольных камней и заменой их современным, без достаточного обжига пустотелым кирпичом всякий раз сопровождалась трещиноватой осадкой наиболее ответственных узлов с аварийным перекосом обреченного здания в целом. Относительная легкость задания по расчистке пустыря под хоромы грядущего вдохновляла на дальнейшее. И так как изощренная тогдашняя техника умножала не только число излишних потребностей, но и мощь сорных эмоций, междоусобной ненависти прежде всего, то глобальное применение доктрины грозило миру участью древних цивилизаций.
... Ничего пока не случилось, кроме того, что молчавший дотоле тринадцатилетний мальчик в намерении высказаться решительно поднялся из-за стола — очевидно, потому, что некоторые суровые слова принято произносить стоя. В нем теперь никак не просматривался недавний, мастеровитый на все руки, не досаждавший старшим хлопотами о себе и вровень с ними деливший семейные тяготы, вглухую замкнутый в себе паренек. Не то чтобы возмужал от необходимости взяться за штурвал при штормовой волне, даже постарел немножко и после первой же полуфразы видно стало, как близка развязка.
— Слушаю тебя и диву даюся резвости твоей, — сухо и внятно, с железцем в голосе сказал Егор. — Пошто так разбуянился в тихий субботний вечерок? Видать, совесть вконец замучила, что ежедневно жуешь бесчестный поповский хлеб, так ведь папаша у нас трудящий, сменил крест на шило, сапожник теперь.
Тогда-то не к месту, на всеобщую беду и впуталась опять Прасковья Андреевна.
— Кого-кого, а старика нашего нечем будет попрекнуть и на судном дне. Только и было жизни у него, что из ямы карабкался да как бы вас за пазухой не зашибить. Чего-чего, пряниками не баловалися, шипучих вин не пивали... — Кстати, утром шаг за шагом восстанавливая в памяти совершившуюся катастрофу, со стыдом и горечью вспомнила сохранившуюся от лучших времен, в шкафике за крупкой непочатую, скудновскую бутылку цимлянского. — Отец ваш, кровные мои, рук не покладая на работе горел, малым огоньком сжигался...
— Вот и не следовало на малом-то... — сквозь зубы вырвалось у Вадима и, струсив, недосказал.
— А чего ему было делать-то? — озадаченно насторожилась, тону посбавила мать. — Не для забавы, он вам пропитаньице добывал, чтоб голодом не заморить.
— Не сжигаться, а сжечься надо было начисто, — в непонятой одержимости проскрипел Вадим. — В солнечный денек вывести семейство на площадь, какая полюдней, да бензинцу не жалея, и запалиться всем гнездом...
— Так ведь вы же крошки были махонькие, неразумные, — руками только и всплеснула мать.
— Вот с крошками-то и полыхнуть впятером! — в неумеренном, чисто дьявольском азарте, с потемневшими зрачками, крикнул Вадим, тем самым обнаружив незаурядный темперамент, который еще полней мог расцвести у него на вершине власти.
... В оправдание ему надо, однако, заранее оговориться, что у Вадима и в мыслях не было обидеть стариков. Напротив, весь тот решающий месяц он в особенности часто с прощальной пристальностью, иногда до щекотки в горле, задерживал взгляд на сутулой спине отца, как тот, скособочась над верстаком, мычал что-то мыслям в лад. Собственно, в той жесткой и нечаянной реплике выхлестнулась застарелая боль за отца — может быть, последнего ортодоксально верующего служителя церкви небесной, до такой степени призванного боками расплачиваться за ее земные прегрешения, что даже поставленного в необходимость виниться перед детьми за дарование им жизни на сей постылой земле. Опять же бессознательно высказанная мысль содержала в себе всю тактику христианского мученичества, когда оно при завоевании вселенной взамен кроткой, для мирного употребления горной заповеди непротивления злу насилием, побеждало его беспримерным личным страданьем. Такого рода человеческие факелы всегда бросали во мрак грядущего не менее яркий, чем светочи передового ума, слепительный луч, и потом поколения пользовались им как тоннелем сквозь каменную толщу зверства при выходе на свой высший биологический рубеж. Вряд ли такое, Никанору принадлежащее, объяснение описанной выходки бросает тень на искренность Вадима в его сближении с огнедышащей стихией, погубившей его новизной: он просто по младости своей стремился к объемному, универсальному постижению истин, одностороннее толкование которых так часто кончается кровавым разочарованием. Именно Вадим столько раз и публично восхищался предоставленным ему эпохой, с выходом в бессмертье, безбрежьем открывшихся горизонтов, — есть где размахнуться уму, хотя и тогда уже попадались у него пессимистические нотки. В частности, по исходящим от Шатаницкого сведениям, дает повод для догадок якобы найденное в бумагах арестованного стихотворение Икар с чисто провидческим посвященьем самому себе.
К сожалению, чисто эмоциональная формула, утверждающая самосожженье как действенное средство апелляции к общественному мнению мира со стороны гонимых, оказалась недоступной для старо-федосеевского разуменья и была воспринята как попрек малодушному духовенству, тем более обидный, что со времени Аввакума не слыхать было о полыхающих батюшках на Руси. Хотя среди прочих Вадим себя обрекал на костер, невзначай сорвавшаяся фраза вызвала взрыв понятного возмущенья, за исключеньем невозмутимого Егора. Все с возгласами различной громкости повскакали с мест, так что на поднявшийся шум, помнится с разбитием малоценной вазы в суматохе, сразу заявился Финогеич с ведром и в сопровождении приезжего на побывку шурина, оба в стадии начального подпития; не без огорчения убедившись в отсутствии бушующей огненной стихии, они воротились к прерванному занятию. Меж тем, дело складывалось хуже всякого пожара, и если Дуня, например, кулачками стуча в грудь оцепеневшего виновника, торопилась втолковать ему, что закон Божий запрещает, не велит убивать себя хотя бы даже на краю разверзшегося вулкана, то Прасковья Андреевна ненатуральным голосом и куда-то вбок воздетыми руками взывала к Владычице пропустить мимо ушей кощунственные шалости незрелого ума, не взыскивать с изувера, как сама она все наперед ему простила. Тогда как о.Матвей носился по кругу меж галдящих домочадцев, словно их стало там по меньшей мере дюжина и, суматошно взмахивая руками, пытался утихомирить с увещательным прижатием к груди каждого в отдельности... Даже канарейка в подражанье хозяевам металась по клетке из края в край, с риском для жизни ударяясь головой о прутья. Но внутренно все они, пожалуй, только и ждали чьего-то окрика со стороны, и, характерно, едва Егор голосом построже обратился к родне с призывом прекратить домашний цирк, тотчас переполох скандала сменился покорной тишиной, даже слезы высохли, и старшие, как по сговору, повернулись лицом к юному мудрецу — точь-в-точь как после фининспекторского погрома впоследствии. Показательно, что и сам Вадим, осунувшийся слегка, потерянным взором искал у него помощи и посредничества, а тот в самом деле заступился перед стариками за старшего брата, чтобы не взыскивали слишком, если понервничал не в меру.