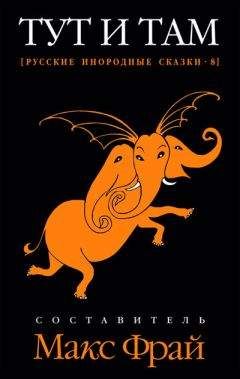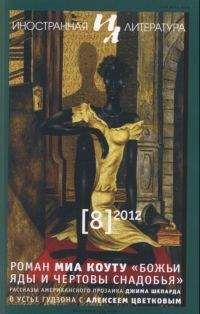Александр Мелихов - Роман с простатитом
Бледнея, она чернела, со своими змеекрылыми загорев и выгорев до состояния фотонегатива. На груди – и ниже – контраст был еще более впечатляющий, насколько можно было разглядеть от шеи под простыней, где было довольно светло: Айседорой Дункан перепархивая через комнату, она всегда что-нибудь на себя накидывала, да и я отводил глаза, когда возникала угроза разглядеть нечто такое, чего нет у статуй, что-нибудь утилитарное, снабженное сфинктером и слизистой оболочкой.
Она не была статуей. Она “залетела”. Хотя я вроде бы и… Но когда и ополоснуться негде… А сперматозоиды были некормленые, быстрые, злые как волки… “Я не хочу, чтобы ты себя уродовала!”
– никак мне было убедительно не сыграть фальшивые чувства. Все же формально ребенка не захотела она. Однако в моем предложении руки и сердца она предпочла уже не заметить натянутости: с незамужними на абортах обращались сурово: “Там не стеснялась раздеваться?!.”
Но и раскатистая свадьба была бессильна перед токсикозом, а когда после нуднейших хлопот и ходатайств деканат ради нас оставил уборщиц без треугольного чулана и мы оказались заперты вдвоем… Нет, втроем с тошнотой. Растерянная тоска стягивалась в один сверлящий вопрос: как же это из веселой бесшабашности может родиться беспросветная обыденность?..
Поживали мы вроде бы весело, устраивали набитые народом вечеринки, на которых мне не приходило в голову пофлиртовать еще и с ней. На фанерном шкафу у нас в брезентовом мешке трещали хвостами расшитые крестиком змеи, под бесконечно ошпариваемым за его терпимость к клопам топчаном жил небрежно расписанный частью под тигра, частью под стрекозу надменный своей двухаршинностью варан с трехгранным бичом хвоста. Топили хреново, варан сутками лежал бездыханный – правда, сунутую в безгубый рот ложку он без всякого выражения лица стискивал своими терками так, что на дюрале оставались поблескивающие задоринки. Зато, подогретый на теплящейся батарее, он оживлялся и, все так же без выражения лица, начинал носиться вдоль катетов, силясь взбежать на гипотенузу, или лупил хвостом по стене, рассекая обои.
Столь опрощенная – до марксизма-фрейдизма – зависимость от материальных обстоятельств вызывала у меня неоправданное высокомерие. Но тоскливая скука стояла неколыхаемо, как неподвластный никаким норд-остам мочальный дух швабр. У моей сообщницы уголки губ тоже сложились кислой складочкой. Не насытившиеся еще с предыдущей ссоры, мы алчно бросались в звенящие дискуссии из-за любой дребедени. Но что по-настоящему ввергало меня в бессильное бешенство – неподвластность духа доводам разума, духа, самодовольно пошедшего под власть законов для скота – она была убеждена, что мы ничем не отличаемся от животных: мы танцуем – и фламинго танцуют, мы целуемся – и пиявки целуются, мы плачем – и крокодилы плачут, мы пишем стихи
– и муравьеды пишут стихи. “Из вас там на биофаке окончательных идиотов делают! Намешать уксуса с керосином, генов с гормонами – и получится поэзия!” – “Почему ты споришь с Данными Науки?” – ее глаза тоже загорались индикаторами ненависти. Мы были сообщники, зарезавшие веселую школьницу, чтобы не поделить мамину холодную котлету из ее ранца. “Какая, к черту, наука – наука прежде всего должна накидываться на наши приятные фантазии, а вы ее ставите им же службу!” – теперь-то я понимаю, что как раз за это науку и ненавидят.
Она полетела в Кызылкум – я двинул на Таймыр. И когда после нашего изумрудствующего лета внизу открылись огромные снеговые пятна среди черного месива, я наконец додумался, чем мы выше животных – у них не бывает запретным, стыдным то, чего им хотелось бы больше всего на свете. Но торжество сорвалось: в
Кызылкуме моя снова любимая взбежала на фальконетовский пьедестал бархана и растаяла в воздухе – только невесть откуда взявшийся варан со значением взглянул на остолбеневшую доцентшу и тоже как сквозь землю провалился.
И теперь я навеки остался сволочью, а она навеки правой во всем.
Какой это соблазн – разом покрыть все чужие козыри смертью! До сих пор не люблю хохотать с женщинами. И видеть ящериц.
Еще не зная, что я уже вдовец, в своих рваных туристских ботинках, схваченных в ахиллесовой пяте золотой проволочкой, я прыгал по очугунелым снеговым лепехам, пока не отхватил со склада пудовые (нога сама выбрасывалась вперед, подобно протезу) ботинки рубщика с шарообразными бронированными носами. И тут вдруг все как с цепи сорвалось: весь снеговой чугун, ополоумев, ринулся с круч к Енисею, взрывая аршинные русла (но бастионы полутораметрового енисейского льда на береговой кромке, усеянной заблудшим лесом, еще долго выстаивали перед этой лавой) и открывая незакатному солнцу сверкающие пространства пустых бутылок: их тут не принимали. Умные люди набивали ими контейнеры, отправляли водой в Красноярск, откуда возвращались, развалясь в собственных “Жигулях” (в трюме), – дребезжать по
“макароннику” – хлипкому горбылю, пачками набросанному в жидкую грязь, куда неиссякаемо, как вода из царскосельской урны, текла серебряная сельдь из разбитой поодаль бочки.
Дома здесь рубят на сваях – “запариваемых” (запаиваемых) в вечную мерзлоту бревнах. Зато все остальное возносится над землей: трехдюймовая труба в утепляющем лубке превращается в метровую бочку, фантасмагорически, как у Дали, вытянувшуюся на бесконечной веренице андреевских крестов. На земле – с глубины лопатного штыка – лом оставляет лишь полированные вмятинки. Зато прижатая к ней соплом водопроводной толщины труба, из которой свищет перегретый пар, обращает ее в гейзер, булькающий пузырями в кулак величиной. Рассказывают, где-то в такой гейзер
“запарили” неуступчивого прораба, но вообще-то бревна в этот двухметровый сосуд раскаленной грязи вгоняют “бабой” – мясницкой колодой, воздетой на две полированно-ржавые рукоятки.
Полупаровозный котел в балк й – вагончике на полозьях, мы с Юрой
(бритобородый русский богатырь в брезентовой робе) регулируем давление безо всяких там котлонадзоров. Стрелка замызганного манометра и при холодной топке стоит далеко за смертоносной красной чертой, а вместо положенных опечатанных клапанов с одной стороны подвешена на проволоке стальная труба, с другой – половинка кухонной плиты. Если балок бросает в чрезмерную лихорадку, нужно приподнять плиту рукой, пар устрашающе засвищет, превращая балок в прачечную, – и хорош. “Взорвется – так и мы вместе с ним”, – утешал меня Юра.
Если не напорешься в глубине на “морену”, можно круто подзаработать. Глубочайшей ночью, борясь с соблазном опуститься на четвереньки, бредешь с вахты в заносчивых ботинках – и застываешь над сверкающей сталью Енисея. По солнцу как бы часов пять пополудни, но сразу видно, что все спит. Корабли на якорных канатах развернуты по прихоти капитанов, но кажется – кого как застиг внезапно павший мертвый сон. На другом берегу начинают набираться синевы прибрежные горы (здешний воздух все норовит обвести неоновым ореолом Рокуэлла Кента), но сама береговая кромка заслонена закруглившейся, словно бы вздутой от могучей полноводности холодно слепящей гладью.
Три часа на конторском столе, к которому собираются осторожные крысы. Утром, ополоснувшись, бродить по тундре, заплетенной похожими на корни бурыми кустами, которые однажды вдруг поднялись зеленой опарой, оставив равнине лишь бесчисленные водные зеркальца – под утро над каждым устанавливалась неподвижная подушечка тумана.
Бог мой, как я по ней тосковал – никакого предчувствия не было, что больше ее не увижу. Но может быть, это была просто еще одна ласточка подступающей тьмы, тьмы беззначимости? Хотя к августу, явившемуся в образе сурового октября, я таки поднабрался простоты. Правда, ко мне в бригаде относились все же с юморком за то, что я не экономил силы: взбирался на сруб на одних руках, без лестницы, каждый вечер, вразвалочку удаляясь со стройки при низком солнце, с разворота метал топо, не хуже Чингачгука, пытаясь срубить голову собственной тени, старался загорать, невзирая на комаров…
В общество питерских бомжей, перекидывавшихся в очко у бадаевских складов, я тоже вошел равным среди равных: меня обматерят – и я обматерю, меня попробуют тряхнуть за грудки – и я тряхну так, что вмиг охота вылетит: когда я по приезде от души пожал приятелю руку, он сделал невольный книксен. Разовых грузчиков – по возможности кто меньше украдет – надергивал из толпы абитуриентов симпатичный парень в штатском – Арнольд. Я всегда оказывался избранником (как у всех здесь, у меня в паспорт был вписан специальный номер для упрощения бухгалтерских расчетов). Арнольд объяснял по-хорошему: зачем, мол, берете хорошие сумки, вчера вот велели все распороть – он и распорол, не надо наглеть, берите, что хозяин сам дает, – и мне до чрезвычайности льстило, что для меня вполне обыденна грандиозность ленинградского чрева – с целыми железнодорожными разъездами, с целыми городами складов, пакгаузов, эстакад, из-под которых, как из брезентовых мешков моей женушки, так и перла всякая бомжовская нечисть: дай, дай, дай дыньку, персик, арбуз… Рыжий плечистый мильтон временами терял терпение и гнал маргиналов по шеям, по спинам, по задам буквально поганой метлой. Мы, допущенные к вагону, прежде всех дел скидывались для него на четвертинку “Столичной”.