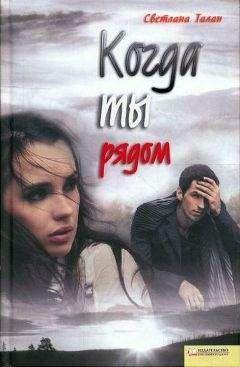Тони Моррисон - Самые синие глаза
— Мы ведь с тобой в одном спортклассе? — спросила Морин Пеколу.
— Да.
— У мисс Эркмайстер ноги кривые. Спорим, она думает, что они красивые. Почему она носит шорты, а мы должны носить эти старые тренировочные? Мне умереть хочется, когда я их надеваю.
Пекола улыбнулась, не глядя на Морин.
— Слушай, — Морин вдруг остановилась. — Вон магазин «Айслей». Хочешь мороженого? У меня есть деньги.
Она расстегнула потайной кармашек муфты и достала оттуда сложенный в несколько раз доллар. Я тут же простила ей ее гольфы.
— Мой дядя с ними судился, — сказал Морин всем нам. — Он судился с ними в Экроне. Они сказали, что он неопрятно выглядит, и отказались его обслужить, а его друг, полицейский, пришел и привел свидетеля, и они вчинили иск.
— Что?
— Ну это когда ты можешь кого-то победить, если тебе надо, и никто тебе ничего не сделает. Наша семья всегда так поступает. Мы верим в иски.
У входа в магазин Морин повернулась к нам с Фридой и спросила:
— А вы будете покупать мороженое?
Мы переглянулись.
— Нет, — ответила Фрида.
Морин исчезла в магазине вместе с Пеколой.
Фрида спокойно посмотрела на улицу; я открыла было рот, но передумала. Я думала, что Морин купит мороженого и нам, и теперь мне очень не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал, что последние две минуты я уже мысленно выбирала его сорт, Морин начинала мне нравиться, и что у нас с собой не было ни пенни.
Мы считали, что Морин вела так себя с Пеколой из-за мальчишек, и были смущены тем, что ожидали от нее угощения, потому что решили, что заслуживали его также, как она.
Наконец девочки вышли. У Пеколы в руках был рожок с двумя шариками, апельсиновым и ананасовым, а у Морин — с малиновым.
— Зря вы не купили, — сказала она. — Там есть всякие разные. Только не ешь самый кончик рожка, — посоветовала она Пеколе.
— Почему?
— Потому что там муха.
— Откуда ты знаешь?
— Я не знаю точно. Одна девочка мне рассказала, что однажды нашла там муху, и с тех пор никогда не ест эту часть.
— Понятно.
Мы прошли мимо кинотеатра «Дримлэнд», и Бетти Грейбл улыбнулась нам с висящего наверху плаката.
— Разве ее можно не любить? — спросила Морин.
— Ага, — сказала Пекола.
— Хеди Ламарр лучше, — возразила я. Морин согласилась:
— Точно. Мама мне рассказывала, что одна девочка, Одри, пошла в салон красоты, там, где мы раньше жили, и попросила, чтобы ей сделали такую же прическу, как у Хеди Ламарр, а парикмахерша сказала: «Да, но ты сначала отрасти такие же волосы». — И она рассмеялась долгим звонким смехом.
— Странная твоя Одри, — сказала Фрида.
— Это точно! Знаешь, у нее до сих пор не было ни одной менструации, а ей уже шестнадцать! А у тебя были?
— Да, — Пекола взглянула на нас.
— И у меня, — сказала Морин, не пытаясь скрывать гордость. — Уже два месяца. Моя подружка из Толедо, где мы раньше жили, сказала, что когда это началось у нее, она перепугалась до смерти. Решила, что поранила себя как-то.
— А ты знаешь, зачем это надо? — спросила Пекола таким тоном, будто надеялась, что отвечать будет сама.
— Для детей, — Морин даже приподняла подведенные карандашом брови, удивляясь такому простому вопросу. — Когда ребенок внутри, ему нужна кровь, и тогда менструации не бывает. Но когда ребенка нет, то кровь не нужна, и она вытекает.
— А как же дети получают кровь? — спросила Пекола.
— Через такую веревочку. Она растет оттуда, где у тебя пупок. Через нее ребенку идет кровь.
— Тогда, если пупок нужен, чтобы оттуда росли эти веревки, которые дают ребенку кровь, и только у девочек могут быть дети, то зачем пупки мальчикам?
Морин задумалась.
— Не знаю, — ответила, наконец, она. — Но у мальчишек полно лишнего. — Ее звонкий смех был громче, чем наш, несмелый. Она облизнула кончиком языка край рожка, поймав здоровый кусок пурпурного мороженого, и у меня на глаза навернулись слезы. Мы ждали, пока загорится зеленый свет. Морин продолжала лизать края рожка; она не откусывала от них, как сделала бы я. Ее язык кружил по краю. Пекола свое уже съела, а Морин, похоже, любила растянуть удовольствие. Пока я думала о ее мороженом, она размышляла над своим последним замечанием, потому что вдруг спросила у Пеколы:
— Ты видела когда-нибудь голого мужчину?
Пекола моргнула и отвернулась.
— Нет, где бы я могла его увидеть?
— Не знаю. Я просто так спросила.
— Я бы не стала на него смотреть, даже если бы увидела. Это неприлично. Кому нравится смотреть на голого мужчину? — Пекола была взволнована. — Никакой отец не будет ходить голым перед своей дочерью, если только он не бесстыдник.
— Я не сказала «отец». Я сказала просто «голый мужчина».
— Ну…
— Почему ты сказала «отец»? — любопытствовала Морин.
— А кого еще она могла видеть, клыкастая! — Я была рада, что мне представился шанс ее позлить. Не только из-за мороженого, но еще и потому, что мы тоже видели нашего отца голым и не хотели, чтобы нам об этом напоминали, не хотели стыдиться того, что нам не было стыдно. Он шел тогда из ванной в спальню мимо распахнутой в нашу комнату двери. Мы лежали с открытыми глазами. Он остановился и заглянул к нам, пытаясь в этой темноте разглядеть, действительно ли мы не спим, или ему только казалось, что мы подсматриваем. Когда он ушел, темнота поглотила лишь его самого, но не его наготу. Она осталась в нашей комнате, как друг.
— Я не с тобой разговариваю, — сказала Морин. — К тому же, меня не волнует, что она видела своего отца голым. Она может целый день на него смотреть, если захочет. Кому какое дело.
— Тебе, — ответила Фрида. — Ты только об этом и говоришь.
— Неправда.
— Правда. Мальчики, младенцы и чей-то голый папаша. Ты наверное думаешь только о мальчишках.
— Лучше замолчи.
— А кто мне что сделает? — Фрида уперла руку в бок и вздернула подбородок, глядя на Морин.
— Да вас ваши мамочки выпорют!
— А ну не трогай мою маму!
— А ты не трогай моего папу!
— Да о нем никто и не говорит!
— Ты говорила.
— Ты первая начала.
— Я вообще с тобой не разговаривала. Я говорила с Пеколой.
— Да! О том, что она видела своего папу голым?
— Ну и что с того?
Пекола закричала:
— Я никогда не видела папу голым! Никогда!
— Нет видела! — огрызнулась Морин. — Бэй Бой сказал.
— Я не видела.
— Видела.
— Нет!
— Да. Видела своего папашу голым!
Пекола втянула голову в плечи — смешное, беспомощное, жалкое движение. Она словно сгорбилась, плечи поднялись выше шеи, как будто она хотела зажать ими уши.
— Не трогай ее отца, — сказала я.
— Какое мне дело до ее черномазого папаши, — ответила Морин.
— Черномазого? Кого это ты назвала черномазым?
— Тебя!
— Ты думаешь, ты такая красивая? — Я хотела ударить ее, но промахнулась и ударила по лицу Пеколу. Взбешенная своей неловкостью, я швырнула в Морин тетрадкой, но попала ей в спину, потому что она уже развернулась и помчалась через улицу наперерез движению.
Оказавшись в безопасности на другой стороне, она закричала нам:
— Да, я красивая! А вы уродины! Черномазые уродины! А я красивая!
Она побежала по улице, и ее ноги в зеленых гольфах были похожи на стебельки одуванчиков, потерявших свои цветки. Грубость ее последних слов оглушила нас, и лишь через пару секунд мы с Фридой заорали: «Шестипалый клыкастый мерин!» Это было самое сильное ругательство в ее адрес, и мы кричали его до тех пор, пока видели ее зеленые гольфы и кроличий мех.
Взрослые хмуро смотрели на трех девочек на тротуаре: две из них натянули на голову пальто, и воротники, покрывавшие их лбы, были похожи на монашеские одеяния, из-под платьев виднелись черные подвязки чулок, едва прикрывавших колени, злобные лица сморщились, как темные увядшие цветы.
Пекола стояла немного в стороне от нас, глядя вслед убежавшей Морин. Она стала маленькой, сложилась, точно птичье крыло. Я не могла спокойно смотреть на ее страдания. Я хотела раскрыть ее, развернуть, воткнуть в нее шест вместо позвоночника, чтобы она не сгибалась, чтобы встала прямо и выплеснула свою боль наружу. Но Пекола не выпускала ее, и боль была лишь в ее глазах.
Фрида сняла с головы пальто.
— Пойдем, Клодия. Пока, Пекола.
Мы быстро пошли прочь, потом замедлили шаг, время от времени останавливаясь, чтобы подтянуть подвязки, завязать шнурки, почесаться или осмотреть старые шрамы. Нас угнетала глубина, точность и уместность последних слов Морин. Если она была красива — в чем трудно было сомневаться, — тогда мы таковыми не были. Что это значило? Мы были хуже. Быть может, обаятельнее, умнее, но все равно хуже. Мы могли ломать кукол, но не могли ничего поделать со сладкими голосами родителей и тетушек, подобострастием наших ровесников, сияющими глазами учителей, которые смотрели на всех этих Морин Пил. В чем был секрет? Чего нам не хватало? Почему это было так важно? И что же? Мы были все еще наивны и не тщеславны, и все равно любили себя. Мы не чувствовали себя неуютно из-за нашей черной кожи, нас радовали новые ощущения, мы любили нашу грязь, гордились своими шрамами и не понимали своей неполноценности. Мы знали, что такое зависть, и считали естественным желание иметь что-то, чего у тебя нет; но ревность была нам еще не знакома. И все же мы знали, что главный наш враг — не Морин Пил: она не заслуживала такой жуткой ненависти. То, что было нашим врагом, делало красивой ее, а не нас.