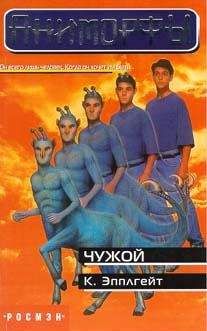Светлана Метелева - Чернокнижник (СИ)
И вдруг я услышал шум деревьев. Ветер кружил листы, подбрасывал вверх и ронял вниз; сдувал шутовской колпак с безглазого уродца; разрастался вширь, ввысь, обхватывал меня, тащил. Как я очутился здесь? Но — шагнул, приблизился. Слепые повернулись на звук, расцепили руки, двинулись ко мне.
И я побежал. Они не преследовали — просто шли ко мне, я слышал грубое тяжелое дыхание за спинами. Небо становилось все темнее, опускалась ночь, каждый шаг давался с трудом, и слепые догоняли меня. Обессилевший, с колотящимся сердцем, я упал. И тут же почувствовал: лес закончился, лежу на холодных камнях, в темноте. Встал на колени, ощупью пытаясь распознать пространство: с одной стороны — стена. С другой… Впереди качнулась круглая тень; показался человек. Я прижался к камню, замер. Он прошел совсем рядом — монах, в длинном белом балахоне; капюшон, тоже белый, низко надвинутый, заслонял лицо; в одной руке у него был фонарь, в другой нес он книги. Не заметив меня, проследовал дальше — неспешным шагом, точно знал, куда идет. Я встал и двинулся за ним.
Длинная галерея, справа — ряд дверок: маленькие, просто так не зайдешь — придется нагнуться; в каждой двери — окошко. Возле одного монах задержался, стукнул раз, другой. Окошко приоткрылось — он молча просунул туда книгу и пошел дальше. А я шагнул внутрь.
Камень стен; тоска ноябрьских сумерек; свеча едва рассеивает тьму. Жилая комната? — нет, вроде; а, понял — монашеская келья: в углу — ниша, скамеечка — по ходу, для молитвы; чуть дальше — нары, как есть — нары, с матрасом и простыней. На стене — большое деревянное распятие. Печь, стол, стул. За столом — человек в черном…
…Замкнутые уста есть условие покоя сердца… Я снова вспомню это речение, когда брат Вильгельм стукнет два условленных раза в дверь и протянет книгу. Я здесь, в монастыре, в Чартерхаусе, дабы научиться скромности, христианскому смирению и добродетели; более же всего — пытаясь остеречься от дьяволовых искушений, среди которых самые первые — любострастие и гордыня. Третий день провожу я в полном молчании, как требует того строгий картезианский устав; на смену страху и невольной дрожи приходят здравое рассуждение, не омраченное порывами грешной души, и глубокий покой. Я привык к бедности своего ложа, и, хотя по утрам по-прежнему ломит все тело, уже могу спать; даже ночная котта мне почти не мешает. Сказано Наставником: одежда нужна тебе, чтобы защитить от холода, а не ради щегольства, также и пища — для утоления голода, а не в угоду чреву. Не потакать собственной плоти — в этом есть мера и мудрость. Башмаки из кожи, которые натирают мне ноги, на Пасху отдадут бедным — и они будут рады обнове; подать бедняку — значит услужить Богу, ведь, по слову Людовика Благочестивого монастырь есть patrimonia pauperum — достояние бедных. А расточить и промотать достояние, вверенное монастырям и, соответственно, принадлежащее Богу, значит, сделаться убийцей бедняков; так гласит определение Парижского собора года 537 от Рождества Христова…
…Я вздрогну: в келье холодно; подходит время сна; потом брат-будильщик пройдет по коридорам, созывая к Полунощнице; словно благочестивые тени, неслышно ступая, повлекутся братья в белых и черных одеждах, с куколями, низко опущенными, славить Господа нашего. После надлежит вернуться в свою комнату и снова лечь спать; этот сон — неровный, поделенный надвое общей молитвой, — словно оцепенение духа в тот час, когда в Чистилище ожидает он приговора.
…Я подумаю: вот, укрылся я в сем вертограде избранных душ от порождаемых городом чудищ; ибо ничего нет там такого, что помогало бы человеку вести добрую жизнь, а не заставляло бы его, как раз наоборот, постоянно падать и не толкало бы в пучину всевозможных пороков. Там встречает он на своем пути лицемерную любовь и сладкую, как мед, отраву лести; там жестокая ненависть, вечные раздоры и таскания по судам; там мясники, повара, торговцы рыбой, живностью, пирожники, заботящиеся лишь о том, чтобы наполнить наши желудки!.. Самые дома и те как бы воздвигнуты для того, чтобы лишить нас неба; они своими кровлями ограничивают наш горизонт. Но даже и здесь, в стенах Чартерхауса, сражаюсь я беспрерывно с тремя злейшими врагами: миром, дьяволом, плотью. И хотя не жалею никаких сил, пытаясь карабкаться по отвесным скалам добродетели, ежечасно, ежеминутно ощущаю, как бунтует тело, подстрекаемое Врагом, как предает оно бессмертную душу. Пытался я укрощать свою плоть: проводил долгие часы в молитвах, постился, надевал власяницу, но вновь погружался во мрак, точно подталкиваемый непреодолимой силой. Наконец, отчаявшись опереться ногами на твердую стезю добродетели, пришел сюда, к братьям молчания, в картезианскую обитель — сюда, где целомудрие не оскверняется ежесекундно царствующей вокруг похотью, где тишина и смирение нянчат и вскармливают чистоту духа, где существует один лишь вид неутолимого вожделения — вожделение Божественной истины, заключенной в книгах. Не этого ли ордена приор Дом Гильом во время пожара, бушевавшего в Гранд-Шартрез в 1371 году, видя, что с бедствием не справиться, воскликнул: «Отцы мои, Отцы мои, к книгам! к книгам!»… А что есть книга как не дитя одиночества и молчания? Не за тем ли и я пришел сюда, чтобы вытеснить из алчущей души греховные томления, чтобы дать новую пищу разуму, дабы он возобладал над плотской скверной?
…С этими мыслями я наугад открою книгу, и взгляд мой замрет на строчках, которые, конечно же, доводилось читать прежде, но которые вместе с тем только сейчас явят мне всю полноту заключенной в них мысли. «Господи, ответь мне, наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим умершим возрастом моим, или ему предшествовал только период, который я провел в утробе матери моей? О нем кое-что сообщено мне, да и сам я видел беременных женщин. А что было до этого, Радость моя, Господь мой? Был я где-нибудь, был кем-нибудь? Рассказать мне об этом некому: ни отец, ни мать этого не могли: нет здесь ни чужого опыта, ни собственных воспоминаний»…
…И тут вдруг в дверь постучат; я поднимусь и пойду отворять окошко. И впервые увижу его…
— Открой мне, добрый брат!
…Я открою дверцу своей кельи, не разобрав, кто это, недоумевая, почему монах нарушает строгое правило Устава; а когда он войдет и откинет с головы куколь, рассмотрю его как должно. Не молодой, но и не слишком старый; высокий лоб открывается залысиной; у него густые брови, большой мясистый нос, губы не узкие и не чересчур широкие, на носу — дужка со стеклами для чтения; усы, борода и виски седые, но глаза — словно у безбородого юноши. В самой глубине прищуренных очей его почудится мне невместная для этих стен веселость; словно взлетающие к небу искры от костра она то гаснет, то вспыхивает вновь. Он проворно повернется, затворит дверь, и продолжит говорить. Я сначала попробую объяснить знаками, что не хочу нарушать правило молчания, но он лишь махнет рукой.
— Не трудись складывать пальцы — я не понимаю знаков. Не бойся меня. Не опасайся. Поговори со мной, добрый брат, послушай, ответь: я старик и порой мне нужен собеседник. И дай-ка мне воды…
Тут я вспомню: да, мне доводилось слышать, что в монастыре живет то ли святой, то ли безумный; ученейший монах; человек глубокого ума и обширных познаний, к которому приходят за советом и помощью простолюдины. Мне известно и его имя — Умберто. Я плесну в кружку воды, подам ему, скажу нерешительно:
— Но, отец мой, Устав требует молчания, я не могу…
— Истина нуждается в сомнении, правила — в нарушении, молчание — в разговоре. Храня молчание, ты теряешь надежду. А разве не за новой надеждой ты пришел сюда, Томас?
Он знает мое имя — но я не удивлен. Он жадно выпьет воду, утрется рукавом рясы. Я попытаюсь объяснить:
— Да, но…
Он перебьет меня:
— Ты ищешь спасения. Ты ищешь противоядия. Ты боишься и хочешь спрятаться от страхов. Но не сможешь, ибо не дано грешному человеку уйти от своих грехов — вечно, вечно он будет к ним возвращаться, точно пес к своей блевотине. И неправда, будто бы могут дать спасение монастырские стены, строгий устав и псалмы. Если ты несешь в обитель заразу, то не добудешь себе выздоровления, но лишь запятнаешь болезнью других. Не с тем ты пришел, нет, не с тем…
Он покачает головой, глядя на меня с укоризной. Спустя несколько секунд молчания я скажу:
— Но как же, отец Умберто? Куда же идти грешнику, как не в дом сынов Господних, где постоянно призывают имя Его в борьбе с искушениями дьявола?
— В мир, Томас, в мир. Там твое сражение будет уместно; там исход битвы неясен — там ты можешь и победить. Но не здесь, где ты неминуемо будешь повержен, ибо неоткуда черпать силы и негде взять оружие.