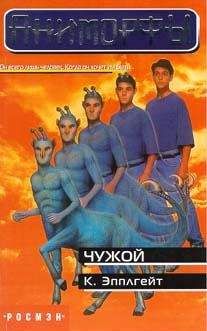Светлана Метелева - Чернокнижник (СИ)
Хуже всего в Москве тем, кто остался в столице жить, но полюбить так и не смог. Все бабье, что есть в потаенной ее глубине, истерикой отзовется на раздражение и неприязнь; вечными женскими уколами отомстит; не даст прозябать нормально. Я никогда не понимал таких людей, потому что любил Москву и чувствовал ее: как и во мне, билась в ней авантюрная жилка, разливался размашистый кураж, отказывали тормоза. Для меня была она — колода карт: можно вытащить джокера, а можно — пиковый валет, пустые хлопоты; порой подмигнет дама треф, а то щелкнет наручниками казенный дом.
Тогда, в конце холодного октября, Москва подталкивала — давай, иди; одобряла, похлопывала по плечу; но тут же пророчила тяжелым небом, предупреждала ледяной моросью. Я умел читать ее знаки и тревожно ловил надвигающиеся перемены — нервами, ключицами, спинным мозгом.
Пока шел к метро, план в голове оформился окончательно: сначала двину в рожу, потом скажу: «Я увольняюсь». Или лучше наоборот: сначала скажу, а потом — в рожу. И — адье, мерзавец. Ищи себе другого «директора дирекции».
Странно: восемь утра, но нет давки. Подземка, где люди? Трое полусонных бедолаг на перроне. Может, апокалипсис случился, пока я ширялся у Алика? Машинально глянул на часы: дата, время. Да ведь сегодня суббота, выходной… «Дать в рожу» срывалось. Ладно, за два дня не остыну. Значит, сейчас — домой.
На выходе из метро заглянул в комок, спросил пачку сигарет и шоколадку. Тетка протянула сдачу, зачем-то — жвачку. Спросил, ответила — бери, мол, подарок. Мне частенько дарят всякие мелочи — не знаю, почему; продавщицы разного возраста — просто мой фанклуб: заговаривают, улыбаются, рассказывают разное, жалуются…
Однокомнатную квартиру на площади Ильича я снял недавно — до этого была почти такая же, разве что подешевле, на Ленинградке, недалеко от Динамо — но там было мне неуютно, район не нравился; да и соседи сверху все время скандалили.
Съемные квартиры удивительно похожи друг на друга: диван, шкаф, дешевый гарнитур в кухне, стол-табуретки-холодильник, иногда бонус — телевизор. Его я сразу и включил: смотреть не собирался, просто тишина давила, надо было срочно ее заткнуть.
Видно, неправильный вчера был винт, нехороший: обычно приход длится дольше: энергия переполняет часов двадцать: спать не можешь, есть не можешь, зато можешь горы свернуть — вполне буквально, кстати. Я как-то описывал винт одному студенту: приход похож на захватывающий широкоэкранный кинофильм с качественным звуком и яркими цветами; когда же наступает отходняк, кажется, что тебе подсунули старый черно-белый телевизор с помехами и хрипом. Поэтому слезть с винта почти невозможно. Поэтому так часто шагают винтовые из окон или ныряют в петлю. Поэтому садишься на винт не после первого укола, а в тот момент, когда решаешь попробовать.
Ящик рушился от новостей — слушать не стал, пошел сразу в душ. Думал — полегчает; нет — жгло изнутри какое-то беспокойство. Трижды пытался заварить чай — и забывал, зачем держу в руках пакетик с заваркой, застывал на середине кухни, глядя в пустоту и без конца перебирая в голове одно и то же: Киприадис-фонд-резюме-по факсу. В конце концов, понял, что дома сидеть не смогу. Оделся; ключи от кабинета в кармане. Дал же бог имечко — Вильгельм Пик.
В здании бывшего института марксизма-ленинизма было пусто; одинокий охранник — кажется, Ваня, — тянул из пачки кефир; мне обрадовался, пригласил сыграть в нарды. Я пообещал, но позже, когда освобожусь — и открыл кабинет.
Что такое резюме и как оно пишется, я знал — видел несколько раз на столе у Киприадиса. А потому для начала сел, нарисовал табличку. Вдруг стало весело — никогда не писал автобиографию под винтом. Все, как полагается, — образование, опыт работы, даже хобби не забыл.
Итак, погнали. Горелов Борис. Тридцать восемь лет. Образование, специальность… Образование… Незаконченное высшее… Плюс полный курс тюремных университетов. Профессия. Аферист. Или — мошенник? Директор дирекции. Смешно. Не забыть три судимости. Собственно, почему я должен это писать? Хобби — легко: наркотики. Ха! Тридцать восемь… Три судимости… Наркотики… Идеальное резюме для воровского схода…Черт бы побрал этого Алика вместе с его резюме и факсом!
Вот она, жизнь. Вся уместилась — на осьмушке листа. Спасибо, господин Горелов, за прекрасную биографию, за «светлый путь». Может, Киприадис проводит до тюрьмы, обнимет на прощанье, слезу прольет…
Окна в табличке блудливо ухмыльнулись. Нагло подмигнул стеклянными дверцами шкаф, показал мое отражение: вот он, Горелов, Борис, тридцать восемь, худое лицо, выбритый подбородок, волосы черные, несколько седых, глаза черные, пустые, безумные.
Наркоман… Аферист… Мошенник… Тридцать восемь… Три судимости…
Новенький блестящий дырокол оскалился — я ударил по нему рукой, он отскочил в сторону — ага, испугался, скотина! Потом почудился тихий щелчок — посмотрел: черный факсовый аппарат… Включился — и туда же «три судимости»…
…Специальность… Образование… Что писать? Аферист? И не забыть три судимости…
Вскочил, схватил стул. Бросил — стеклянные дверцы обрушились на пол — вместе с осколками: в каждом был я — Горелов, тридцать восемь, три судимости, мошенник, наркоман. Прислонился к стене — она оттолкнула меня. Бросился к окну, распахнул — ледяной ветер прыгнул на стол, схватил белые листы, уронил их на пол. Вон оно — резюме: пробует отползти под шкаф, надеется спрятаться. Хрен тебе, ясно? Вырывалось, ускользало — а я поймал! Вот же тебе — пополам! И — еще пополам! Кусочки становились меньше, меньше. В распахнутое окно отправился дырокол — грязно-серый, с вечно разинутой смеющейся пастью. Вслед за ним выбросился факс. Все. Резюме отправлено по факсу. Как договаривались…
…Опомнился. Увидел. На руке кровь. Откуда? А, поранился, — весь пол в осколках. Выглянул, посмотрел вниз — да, факс, валяется, разбитый. Бред. Винтовой бред. В комнате царил полный бардак — когда это я успел? За окном быстро темнело.
Что же будет? Что? А вот что — я уйду. Начну сначала. Знать бы, где оно. Три судимости — виноват, простите. Но ведь китаец-Комментатор сказал, что в нашей стране почти все сидели, а тот, второй, который с ним разговаривал, холеный обозреватель, тоже зону топтал, а поднялся, раскрутился, известный человек… И я смогу. Смогу. Сойду с поводка — уволюсь; дальше — либо к Алику, либо… не знаю.
Я стоял на берегу — меня захлестывало с головой. Да, решено. Новую жизнь. И — сейчас, прямо сейчас, не буду откладывать. Сделаю… что? Да хоть что-то… Чего не делал раньше… Во! Полы вымою. Нужно все стереть. Смыть — дочиста. Тряпка. Нужна тряпка. И швабра. И ведро.
Длинный коридор, темнота. Охранник (Ваня? Или Вася?) окликнул меня, но я махнул рукой: отстань, не до тебя, двинулся вдоль стены искать каптерку. Где-то же должно быть подсобное помещение с тряпками, швабрами, ведрами… В моем институте было такое. О — вот оно! Маленькая невзрачная дверь — она почти потерялась рядом с остальными — высокими, солидными, с номерами. Закрыта. Ничего, не проблема; я достал маленький перочинный ножик (всегда носил с собой — мало ли!); аккуратно свинтил замок. Открыл дверь, нащупал выключатель, вошел. Включил свет…
Остолбенел.
Вот и она, кормушка Киприадиса.
Судя по всему, был это какой-то спецхран. Метров пятьдесят в длину; шкафы выстроились рядами, глядя в затылок друг другу. На полках — книги. Такие же точно отвозил я на Рижский вокзал — дорогие. Антикварные. Старые книги в коже, древние тома с какими-то гвоздиками на обложках, книги с тиснеными узорами, металлическими накладками и застежками, с золочеными буквами на корешках.
Тусклый свет не справлялся с надвигающимися сумерками; тени удлинялись, наползали, обнимали уходящие ввысь ступени стеллажей; было удивительно тихо, немножко затхло.
Протянул руку к ближайшему шкафу — вытащил наугад. Большой том, потертый бархат обложки, названия нет — выдавлен какой-то знак; вроде бы дерево… Открыл. Альбом с иллюстрациями — глянец, текста чуть-чуть. Пролистал, споткнувшись о дореволюционные «яти» и «еры». Брейгель, «Слепые». И кто такой Брейгель? А, художник…Хоровод каких-то уродцев: взявшись за руки, шли они то ли в реку, то ли в болото, где уже, задрав ноги, валялся один…
И вдруг я услышал шум деревьев. Ветер кружил листы, подбрасывал вверх и ронял вниз; сдувал шутовской колпак с безглазого уродца; разрастался вширь, ввысь, обхватывал меня, тащил. Как я очутился здесь? Но — шагнул, приблизился. Слепые повернулись на звук, расцепили руки, двинулись ко мне.