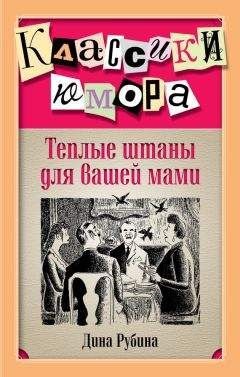Ханья Янагихара - Маленькая жизнь
– Ты почему так ходишь? – оборвал его Калеб.
Невыносимо было говорить Калебу, что с ним еще что-то не так, он не мог себя заставить снова пройти через это.
– Я странно хожу? – спросил он.
– Да, как чудище Франкенштейна.
– Извини, – сказал он.
Уходи, сказал голос внутри него. Уходи немедленно.
– Я не замечал, что так хожу.
– Ну и не ходи так. Выглядишь как дурак.
– Хорошо, – тихо сказал он и положил Калебу в миску немного карри. – Держи. – И он направился к Калебу, но, пытаясь идти нормально, задел правой ногой за левую, споткнулся и уронил миску, расплескав зеленый карри по ковру.
Потом он будет вспоминать, как Калеб, не говоря ни слова, просто развернулся и ударил его тыльной стороной ладони, так что он упал, стукнувшись головой о покрытый ковролином пол.
– Так, убирайся вон, Джуд, – услышал он голос Калеба еще до того, как к нему вернулось зрение; Калеб даже не кричал. – Вон, я сейчас видеть тебя не могу.
И он пошел вон, встав на ноги, шагая своей дурацкой чудовищной походкой, оставив Калеба убирать за ним.
На следующий день лицо у него расцветилось, кожа вокруг левого глаза окрасилась в невероятно прелестные оттенки: лиловые, янтарные, бутылочно-зеленые. К концу недели, когда он поехал на прием к Энди, щека у него стала мшистого цвета, глаз заплыл и почти не открывался, а верхняя губа вздулась, воспалилась и стала блестяще-красной.
– Господи боже, Джуд, – сказал Энди, когда его увидел. – Пиздец какой, что случилось?
– Теннис на инвалидных колясках, – ответил он и даже улыбнулся, он эту улыбку вчера вечером отрепетировал перед зеркалом, щеку подергивало от боли. Он все выяснил: где проходят матчи, как часто, сколько человек состоит в клубе. Он выдумал историю, которую рассказывал сначала себе, а затем и коллегам, до тех пор, пока она не стала правдоподобной и даже комичной: соперник, который играл еще с колледжа, подает правой, он не успевает повернуться, шмяк – мяч ему в лицо.
Все это он рассказал и Энди, и тот слушал его, качая головой.
– Ну, – сказал он, – я, конечно, рад, что ты чем-то увлекся. Но, черт, Джуд. Думаешь, это хорошая затея?
– Ты сам мне все время говоришь, чтобы я не перетруждал ноги, – напомнил он Энди.
– Знаю, знаю, – сказал Энди, – но ты ведь и так плаваешь, может, этого хватит? И вообще, надо было тогда сразу идти ко мне.
– Энди, это обычный синяк, – сказал он.
– Это чертовски жуткий синяк. Черт, ну, Джуд.
– Ладно, короче. – Он старался говорить беззаботно и даже чуть-чуть грубовато. – Мне нужно с тобой насчет ног посоветоваться.
– Советуйся.
– Странные какие-то ощущения, я как будто ноги в бочки с цементом засунул. Я их не чувствую в пространстве – не могу их контролировать. Поднимаю одну ногу, а когда ставлю ее на землю, то бедром-то чувствую, что поставил, но самой ноги не чувствую.
– Ох, Джуд, – сказал Энди. – Значит, нервы у тебя повреждены. – Он вздохнул. – Хорошая новость – ну если не считать того, что у тебя это могло начаться гораздо раньше, – так вот, хорошая новость такая: это не навсегда. Плохая новость: я не могу тебе сказать, когда это закончится, начнется ли это снова и когда. И еще одна плохая новость: единственное, чем тут можно помочь – ну кроме как ждать, пока пройдет, – так это обезболивающими, которые ты, как я знаю, принимать не хочешь. – Он помолчал. – Джуд, я знаю, тебе не нравится, как ты себя чувствуешь под обезболивающими, но теперь на рынке появились средства куда лучше тех, которые продавались, когда тебе было двадцать, да и даже тридцать. Может, попробуешь? Дай я хотя бы выпишу тебе что-нибудь простенькое для лица – тебе, наверное, дико больно?
– Да не очень, – соврал он.
Но рецепт все-таки взял.
– И ноги не перетруждай, – сказал Энди, осмотрев его лицо. – Да с теннисом, ради бога, смотри не переусердствуй тоже. – И, когда он уже уходил, добавил: – И насчет порезов мы с тобой тоже поговорим!
Потому что с тех пор, как они стали встречаться с Калебом, он стал чаще себя резать.
Вернувшись на Грин-стрит, он припарковался на въездной дорожке перед гаражом и как раз отпирал парадную дверь, когда услышал, что кто-то его зовет, и увидел вылезающего из машины Калеба. Он был в инвалидном кресле и попытался быстро заехать в подъезд. Но Калеб оказался быстрее, он успел схватить закрывавшуюся дверь, и вот они вдвоем снова оказались одни в вестибюле.
– Ты зря пришел, – сказал он Калебу, на которого даже взглянуть не мог.
– Джуд, послушай, – сказал Калеб. – Мне очень стыдно. Честно, очень. Мне просто… на работе такой кошмар творится, все ведут себя как распоследние мудаки… Я бы пораньше приехал, но я просто даже выбраться оттуда не мог… и вот, сорвался на тебя. Прости, пожалуйста. – Он присел рядом с ним на корточки. – Джуд. Взгляни на меня. – Он вздохнул. – Пожалуйста, прости. – Он обхватил его лицо руками, развернул к себе. – Бедное твое лицо, – тихо сказал он.
Он до сих пор не совсем понимает, зачем тогда разрешил Калебу подняться в квартиру. Впрочем, если быть до конца честным, он чувствует, что удар Калеба был неминуем, что после этого ему в какой-то мере даже стало легче: он ждал какого-то наказания за свою самоуверенность, за то, что думал, будто ему дозволено то же, что и другим, и вот – наконец – он наказан. Так тебе и надо, повторял голос у него в голове. Так тебе и надо за то, что строил из себя невесть что, за то, что считал себя не хуже других. Он вспоминает, как Джей-Би боялся Джексона, и ему понятен этот страх, понятно, как один человек может полностью оказаться во власти другого и как то, что кажется плевым делом – встать и уйти от них, – может быть непосильной задачей. К Калебу он чувствует то же, что когда-то чувствовал к брату Луке: он поспешил ему довериться, он возлагал на него столько надежд, он думал, что тот его спасет. Но даже когда стало понятно – нет, они его не спасут, даже когда все надежды рухнули, он не сумел от них освободиться, не сумел уйти. И в том, что он прибился к Калебу, есть даже своего рода симметрия: они с ним как боль и больной, накренившаяся куча мусора и обнюхивающий ее шакал. Они существуют только друг для друга – он не знал никого в жизни Калеба и ни с кем из своей жизни его не знакомил. Они оба знали, что делают что-то стыдное. Они оба связаны взаимным отвращением и неловкостью: Калеб терпит его тело, а он терпит омерзение Калеба.
Он всегда знал: захоти он найти себе пару – придется чем-то поступиться. Он знает, что Калеб – лучшее, на что он может рассчитывать. По крайней мере, Калеб хотя бы не урод, хотя бы не садист. Он не делает с ним ничего такого, чего с ним не делали раньше, – об этом он напоминает себе снова и снова.