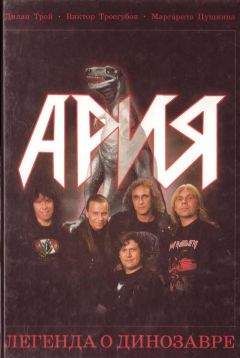Пол Скотт - Жемчужина в короне
Мы с ней близко сошлись. Сначала она понравилась мне тем, что хорошо относилась к Гари и не видела ничего дурного в том, что мы бываем у нее вместе. Она разрешала нам посидеть в конторе или у нее в комнате. Когда становилось темно, мы возвращались на велосипедах в дом Макгрегора, но к нам он в этих случаях обычно не заходил. В те дни, когда я собиралась побывать в Святилище, я уезжала в больницу на велосипеде, старалась выехать пораньше, чтобы меня не застала машина, которую присылал за мной мистер Меррик. Так же и после работы. Оставляла для шофера записку, что либо ушла, либо работаю допоздна. А иногда доезжала до дому на машине, а уж оттуда ехала на велосипеде в Святилище. Я не хотела, чтобы в больнице знали, что я помогаю сестре Людмиле принимать больных. Это бывало нечасто, но я боялась, что это могут счесть нарушением больничных правил. Однажды я встретила там Анну Клаус и просила не выдавать меня. Она посмеялась и сказала, что, по всей вероятности, это и так известно — в таком городе, как Майапур, почти невозможно что-нибудь скрыть.
Но не все, кому это могло) быть интересно, знали. Не все из тех, кто жил на нашем берегу реки, как, например, Роналд Меррик. От Роналда я это скрыла, потому что это была та часть моей жизни, которой я ни с кем не хотела делиться. Роналд был частью другой жизни. А Лили — третьей. Я и сама не знала, что разгородила свою жизнь этими герметическими стенками, то есть не знала умом. Бессознательно — это да, и чувствовала, что пошла на обман, но в те дни еще не хотела называть это обманом, во всяком случае до того вечера, когда мы пошли с Гари в храм и я узнала, какую роль Роналд сыграл в его аресте, а тогда почувствовала, что обманывали все, и я в том числе, и мне стало страшно, и оказалось, что мне и до этого было страшно, что я, как и все, все время боялась дерзнуть, оторваться от привычного, а это, согласись, уже смешно, ведь когда-то я тешила себя мыслью, что все должны поступать именно так, что я сама именно так и поступаю. А я-то, оказывается, когда тянулась к новому, одной рукой крепко держалась за старое.
Все, что со мной случалось, я, вероятно, воспринимала тогда как приключение. Вечер в доме Макгрегора с Лили и небольшой «смешанной» компанией гостей, вечер в клубе с Роналдом или с нашими мальчиками и девочками, два часа в амбулатории у сестры Людмилы, утренняя воскресная прогулка с Гари в Бибигхар. Но ведь это и были приключения, правда? Ведь каждый раз что-то одно — пусть неумышленно, но бесспорно — делалось наперекор всему остальному. Я только и знала, что нарушать правила. Самое забавное, что люди не могли сказать с абсолютной уверенностью, какое именно правило и как именно я нарушала в каждом случае, потому что сами они были до того связаны каждый своими правилами, что могли только издали наблюдать, видели, что я что-то нарушила, и ушла, и на время стала невидимой, а когда возвращалась, когда опять включалась в их жизнь, не знали, где я побывала и чем там занималась, а значит — и в чем меня можно обвинить, кроме как в самых общих словах, что я… неустойчивая? лезу на рожон? хочу быть лучше всех? Все это, конечно, плохо, но люди предпочитают поточнее определять, в чем выражается у их ближних неустойчивость и желание выделиться, а если это им не удается, то из одного страха перед тем, каким чудовищем ты можешь оказаться, снова и снова пытаются обратить тебя в свою веру.
Чтобы тебя заклеймили и отвергли — а это, наверно, самый легкий способ добиться известности, — нужно открыто сказать или сделать что-то, противоречащее тому, во что они, как им кажется, верят. Чтобы тебя приняли как свою, нужно, чтобы все видели или слышали, как ты отстаиваешь то, во что они, как им кажется, верят. Когда нет ни того, ни другого, это, очевидно, непростительно.
Но пойми, тетечка, мне было ужасно трудно. Мне в самом деле нравились некоторые из тех мальчиков и девочек, с которыми я встречалась в клубе. И в самом деле нравился Роналд, когда он старался держаться со мной легко и естественно и это ему почти удавалось. Он нравился мне даже тогда, когда бывал мудреный и «официальный», потому что я думала, что знаю, в чем тут причина. И я любила Лили, даже когда она напускала на себя надменность, когда давала о себе знать ее голубая раджпутская кровь и она как бы брезгливо подбирала юбки (извиняюсь — сари). Мне нравилось, как англичане веселятся, пока это веселье не становилось наигранным, или вульгарным, или грубым, нравилось простое, почти детское веселье индийцев и их серьезность, пока они не начинали томно вздыхать, иронизировать и дуться не хуже англичан. С Гари я никак не могу связать слово «нравиться», потому что тут неизбежно вторгалась его физическая притягательность, а значит, это была уже любовь, что не мешало мне видеть и его колючесть, и тупое упрямство. И в результате на бумаге я выгляжу как эталон добродетели и широты взглядов, пока не вспомнишь, какой гнусностью все это обернулось по моей вине.
* * *Глупо это, когда при виде некоторых людей, или мест, или предметов мы машинально говорим: «Вот это Индия. Вот это Англия». Когда я в первый раз увидела Бибигхар, я подумала: «До чего же индийский сад!» Индийский не в том смысле, как я представляла себе все индийское, пока сюда не приехала, а каким оно мне показалось тогда. Но если говоришь такое и при таких обстоятельствах, этим хочешь определить привлекательность какого-то места, которое по видимости чужое, а по существу выражает что-то всеобщее и вездесущее. Ужасно трудно сформулировать это ощущение словами. Ну вот, скажем, про Тадж-Махал говорят, что он «типично индийский». Памятник могольской эпохи, запечатлен во всех учебниках. Но сердцем на него откликаешься потому, что в нем воплотилось чувство человека, боготворившего свою жену, а это чувство не индийское — и не антииндийское, а общечеловеческое, только выраженное в данном случае «по-индийски»! Вот так у меня было с Бибигхаром. Он рождал ощущение, что в прошлом там произошла какая-то трагедия, которая длится и до сих пор, но ее можно искупить, если бы только знать, как и чем. Такое можно вообразить в любом месте, но, вообразив это именно там и чувствуя, что трагедия жива до сих пор, я сказала: «Вот она, Индия!» Это было первое место в Майапуре, которое именно так меня поразило, и от удивления я, видимо, решила, что набрела на что-то типичное, а типично это было не для какого-то определенного места, а всего лишь для человеческих поступков и желаний, которые порой оставляют после себя самый неожиданный, а то и жуткий след.
Обычно мы с Гари бывали там утром, по воскресеньям, но однажды нас загнал туда дождь, уже перед вечером, мы влетели в ворота на велосипедах и взбежали по ступенькам с лужайки в «павильон», под крышу над мозаичным полом. Мы постояли там, я закурила. Ехали мы пить чай к тете Шалини. Была суббота. В больнице я работала полдня, а потом поехала на европейский базар узнать, готовы ли эти несчастные снимки — помнишь, я прислала тебе на день рожденья, снялась у Субхаса Чанда, у него еще был чуланчик в аптеке Гулаба Сингха. Я увидела Гари, он как раз выходил из редакции своей «Газеты», окликнула его и сказала: «Пойдем, поможете мне выбрать снимки для тети Этель, если вышло хорошо, могу подарить и вам». И мы вошли в чуланчик и стали разглядывать пробные снимки. Я только вздыхала сокрушенно, но Гари сказал, что снимки неплохие, и помог мне выбрать тот, с которого заказать фото кабинетного формата. Потом я потащила его с собой к Дарвазе Чанду, выбирать для тебя отрез на платье. В магазинах в этот час было совсем мало народу. Редкие покупатели, как полагается, пялились на нас. Я взглянула на часы, увидела, что уже четыре, и пригласила его к нам пить чай, а он сказал: нет, поедем к тете Шалини. Я не была у него в доме с того вечера, еще до дождей. Я сказала, что поеду с удовольствием, только надо бы переодеться, но он сказал: «Зачем? Или нужно предупредить леди Чаттерджи?» Но Лили в тот день заседала в своем комитете при Женской больнице, предупреждать Раджу было необязательно, и мы поехали. Той дорогой, что вела к Бибигхарскому мосту. По Мандиргейтскому мосту он терпеть не мог со мной ездить, там приходилось ехать через базар. И вот тут-то, около Бибигхара, нас настиг дождь. Обрушился стеной, как здесь всегда бывает, и мы помчались под крышу в полной уверенности, что минут через двадцать потоп кончится. Но дождь все лил и лил, и поднялась буря.
Я рассказала ему про мои мысли насчет Бибигхара. Очень это было странно — сидеть на мозаичном полу и стараться перекричать дождь и ветер, а потом молча выжидать, пока станет потише. Я просила его, чтобы он тоже снялся, но он сказал, что выходит отвратительно. Я сказала: «Ничего подобного. А как же те снимки, что мне показывала тетя Шалини?» Он сказал, что «был тогда моложе». Я спросила, поддерживает ли он связь с этими своими друзьями Линдзи, но он только пожал плечами. Он и тогда ежился, когда тетя Шалини о них упоминала. Я решила, что они перестали ему писать и это ему обидно, но по одному вопросу, который мне задала сестра Людмила в нашем последнем с ней разговоре, почувствовала, что дело тут серьезнее, что-то связанное с этим мальчиком, Колином Линдзи, которого тетя Шалини всегда называла самым близким другом Гари в Англии.