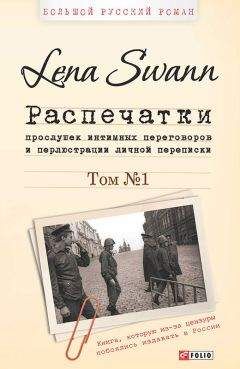Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2
— Слушай, а давайте не поедем никуда сегодня обратно?! А?! Как вы? Согласны?
Влахернский аж весь зажегся от счастья.
— А ночевать где? Что ты городишь? — загундел Воздвиженский.
— Да не беспокойтесь вы! Сейчас что-нибудь найдем! Смотрите, сколько церквей вокруг! Сейчас куда-нибудь попросимся, приютить нас!
— Сумасшедшая, — кратко высказался Воздвиженский, хоть и подергивая раздраженно носом, но уже с явным позитивом в этом эпитете. И, неожиданно, согласился. Кажется — из какой-то смутно привлекательной мечты о совместной ночевке — не в разных палатках, а в каком-то загадочном новом месте; и надежды, что два компонента, добавленные друг к другу в схожих обстоятельствах, произведут ту же химическую реакцию.
И пили чай с лимоном в сумерках, тщательно размешивая их стеклянными дверцами теплого от цитрусового света кафе. С трудом уговорив кельнера заварить по-русски, и снабдить кусками накромсанной желтой пупырчатой ядрёной бомбы, медленно, по мере работы нержавеющего весла в лодке, разводящей темноту чая — долго объясняя, почему лимон ни в коем случае нельзя по-простому выжать. Но сначала учились, не протягивая гласную в чае по-немецки, не растворять ее, как песок в одноименном горячем напитке, и не зажевывать вслух, как спитую заварку по-русски, а кратко, и с размаху, бросать в воздух, как в чашку четвертной кусок рафинаду: «Хербата». Чтобы официант вообще понял, чего от него хотят. А Влахернский все отнекивался от латинских корней и боялся, что сейчас им принесут травяную настойку. Я крайне занята здесь тем, что взмешиваю горячие, горючие, вещества в граненых прозрачных мензурках.
И медными медленными ликами, раскладываясь на веер ломких овалов по очень цветной диагонали, фотографировались по очереди вспышкой бокового блика диковинного самовара — сложнейшего агрегата, с двумя круглыми разноразмерными термостатиками и бесчисленными сверкающими трубочками; купол прибора был золочен, с глазастой, растяписто размахнувшей крылья и совсем неласковой, присевшей там, на маковку, бронзовой птицей. Литавровое же пузо кочегарилось — явно на взлет — и — кривороже и выпукло — как могло, словом — отражало гримасничавшую насупротив тройную сумасбродную свободу.
И едва вышли из чайной, увидели двух юных монахов — с белой канатной перевязью на рясе (бечева вот-вот расцветет — вся в крупных почках) и отличнейшими капюшонами, длиннющий оттянутый треугольник которых доставал аж до пояса. Монахи были их возраста, не больше, — и улыбались во весь рот, шагая вниз под горку, взбивая шоколадные волны, и беззаботнейше между собой трещали.
— Братики! А где вы ночуете? — подбежала к ним сразу доверчиво Елена, сестринским панибратством лишив дара речи даже Влахернского.
— Аа-ах! Что ж вы так поздно-то?! — всплеснул ручками шедший справа монах, чуть пухлявый, но высокий, статный, до смешного херувимистый блондин с кудряшками, с чуть девичьим, мягким, округлым лицом, с невероятным ровным и длинным римским носом и сметанным, лепным, классицистическим, маленьким, подбородком. — Мы уже к себе в монастырь сейчас уезжаем! Что же вы чуть раньше-то не…?!
— Мы из Ченстоховы… — робко добавил подоспевший Влахернский.
— Аа-х! — опять всплеснул ладошками монах. — Как же вы теперь… Где же вы будете! Ах! Что ж делать-то?
Второй монах, шустренький, подвижный (если не сказать вертлявый) и востроносый — по-деловому, чуть прищурившись, мигом все смекнув и обмозговав, затараторил:
— Так, так, так, Доминик, сейчас, всё решим, не волнуйся! — подбадривал он — скорее своего сердобольного друга, чем бездомных русских. — Пошли, скорей, проверим — в семинарии может быть еще не заперто на ночь! Побежали, устроим их!
Глоссолалии были полнейшие — каждый говорил на своем языке: монахи — на польском, русские раздолбаи — на русском; но каждый каждого понимал превосходно.
— Ну бежим, бежим, скорей! — обратился теперь уже к Елене второй, легкий на подъем востроносый шустренький монах и, без всякого стеснения, уже развернувшись, и припустив вместе с ней, в противоположную сторону, на ходу, представился:
— Я — Констанциуш. А он вот — Доминик! — произнес он с такой круглой улыбкой, и с таким округлым и долгим, уютным ударением на «о», как будто в имени его приятеля уже заключалась и сдобность его, и римский нос, и все его ахи и охи. И тут вдруг и вовсе перешел на отличнейший русский: — Я в школе русский учил! Нас же заставляли! Забыл только всё уже! Вот Доминик — тоже, между прочим, учил русский! — подначивал он, локотком, ходко молотившего уже рядом сандалиями по дорожке пухлявого Доминика.
Домчавшись в разжиженной (видать, лимоном) темноте до здания семинарии, Констанциуш хитренько мотнул им всем головой — чтоб смотались немедля прочь и не маячили, пока он будет улаживать с вахтой. Доминик, чуть подпрыгивая (как будто на его крупный, потенциально размашистый шаг чуть влияла ряса — и теперь он невольно брал разбег не вширь, а ввысь) и тихо квохча, как клушка, в панике увел скорей гостей; кто-то отпер; Констанциуш скользнул внутрь; исчез на минуту; потом — снова выскользнул, подбежал к ним и подмигнул:
— Я сказал, что вы — гости нашего монастыря. Ни в коем случае ничего с ним не обсуждайте, ни на какие вопросы не отвечайте! А то чего-нибудь перепутаете, а нам потом врежут! Если что-нибудь спросят, говорите: «Nie wiem! Nie rozumiem!» Но завтра утром вам придется сразу же уйти — как только проснетесь. Ладно?
Но Елену и Влахернского оттянуть от Доминика и Констанциуша уже даже за уши, смачно, до предела, нафаршированные чудным польским монашеским говорком, невозможно было: вот же — живое чудо, монахи — да еще такие молодые, их возраста — и уже вот сейчас исчезнут, и они даже не успеют поговорить с ними, и расспросить их ни о чем — да и просто побыть рядом!
Констанциуш, ходивший уже как на роликах на месте, увидев, что русские не хотят их отпускать запричитал:
— Ай-яй-яй-яй-яй… Мы не можем остаться дольше, нас в монастыре ждут, мы сейчас поезд пропустим. А вы приезжайте к нам в гости — сразу же, как с Яном-Павлом-Дру́гим пообщаетесь! Мы вас будем ждать! Погостите у нас! Договорились? Прямо сразу вечером после того, как Ян-Павел-Дру́гий уедет — садитесь на электричку: от Ченстоховы до Кракова, а от Кракова езжайте в направлении Вадовицы! Совсем недалеко! Наша станция — Кальвария Зебжидовска! Запомнили? Другая Ерозалима! Приедете? Договорились? Будем ждать! Кальвария Зебжидовска! Запомнили?
— Чего-чего жидовска? — подсуетился сзади с комментариями Воздвиженский.
— А как нам от станции-то там идти? — волновался Влахернский.
— Да так! Просто! — Констанциуш выразительно махнул рукой и широко улыбнулся.
— Как? «Просто»? — на всякий случай конкретизировала Елена.
— Так, prosto! — махнул Констанциуш второй раз рукой куда-то наверх.
Доминик уже доставал из кармана рясы дрожащими от спешки, лепными руками (похожими чуть-чуть на Дьюрькины — с пухленькими продолговатыми пальчиками и красивыми фигурными удлиненными ногтями) какую-то сложенную вчетверо бумажку, хотел разорвать, потом на всякий случай спешно развернул документик, заглянул в него — и обморочно ахнул. Эквилибристски засунул документ под мышку. И стал еще судорожнее шарить по карманам — никакой другой бумаги в них не нашел и, как будто тайком от самого себя, опять вытащил документ из-под мышки, и — ахнув еще раз, для порядку — рванул от него небольшой клочочек бумажки, и, выхватив у Констанциуша карандаш, приставив колено к кирпичной стенке, мягко вырисовал название платформы, по-польски, и всунул Елене в руку письмена:
— Будем ждать! Договорились? Мы скажем настоятелю, что вы приедете! — подбирая обеими руками полы рясы, Доминик, уже в панике, бежал к станции, и за ним вприпуски, оборачиваясь, подмигивая им и подсмеиваясь над другом, Констанциуш.
Крайне недовольный, худощавый, молодой, но лысоватый вахтер впустил их внутрь здания (слегка военного духа — с длиннющими пустынными гакающими коридорами форта, звучными голыми лестницами), раскрыл перед ними, а потом сразу запер, тяжелую дверь, которая отрезала лестницу, как карантином — прошагал вместе с ними пустынным лабиринтом, и неожиданно свернул, и ввел их в большую аудиторию. Только что отремонтированную. Ни слова не говоря развернулся и ушел.
Хлопнул в отдалении железной дверью (резко приближенной тишиной), — потом, минут через пять, хлопнул той же самою дверью — но уже шагая в обратную сторону, к ним — гулко, по-военному размеренно, промаршировал по коридору, чуть позвякивая бубенцами ключей на боку, и появился снова — со скирдой аскетических серых одеял. Сирых, но не сырых. Скинул их на ближайшую парту. Молча позвал рукой Влахернского, и так же молча провел его по коридору: показал, где туалет; щелкнул для демонстрации перед его носом несколько раз всеми электрическими выключателями (так, что мифическая перспектива коридора несколько раз с треском вспыхивала, и гасла опять) — и все так же, не сказав ни слова ушел, громыхнув опять дверью вдали, и звучно запер их на ключ.