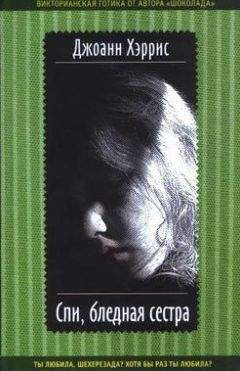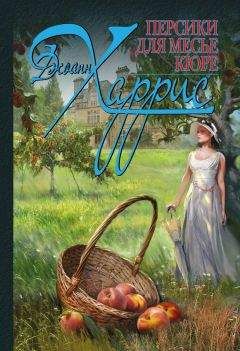Елена Катишонок - Когда уходит человек
Занавески на окнах Леонеллы были плотно задернуты. Кошки, которая сидела на окне зильберовской гостиной, сегодня не было, как не было и занавесок.
Бергман встал, подхватил сумку на плечо. Скорбный путь он прошел налегке, как прошел бы турист, если бы нашелся экскурсовод. И все же хорошо, что это сделано; лучше поздно, чем никогда, повторял он, а впереди было только «никогда», завтра он уезжает. Осталось проститься с родителями, но это другое кладбище.
Макс не удивился, увидев около дома знакомые «Жигули» и шофера, который его привез. Шофер тоже не очень удивился:
— Едем, шеф?
Уехал доктор Бергман, давно в доме не живший, разве что белой фамилией на черной доске. Уехал, увозя в сумке через плечо старого игрушечного медвежонка, закутанного в шерстяной носок, обвернутую в газету «ПРАВДА» Библию с мрачными картинками, в которой были вложены фотография беззаботной пары на фоне горы и пальмы и его собственное письмо Шульцу со штампом поперек конверта: «АДРЕСАТ УМЕР», а также старинный нож для разрезания бумаг со странными знаками на рукоятке — не то узор, не то каракули. Простой карандаш с затейливым названием лег на дно кармашка.
Уехали Штейны, давно, оказывается, жившие в доме. Уехали, увозя по два чемодана на каждого члена семьи, как разрешил всесильный ОВИР, и трудно было узнать бабку-Боцмана в сухонькой старушке, наряженной в норковую шубу, тем более что такая же норковая шапка прихлопнула воинственно торчащую проволоку волос, а басистого ее голоса дом не слышал — если она с кем-то прощалась, то уж не с Леонтием Горобцом, которому случилось встретить последнее шествие Штейнов по лестнице. Увы, кошки с ними не было — и не потому, что кошке с таким именем нечего делать в пункте назначения, а просто кошка завершила один свой жизненный путь и начала новый — как, собственно, и ее хозяева.
Горобец опять курит на балконе четвертого этажа. Теперь он называет «проклятой жидовней» своих соседей по лестничной клетке, тихих Шлоссбергов. Те делают вид, что не слышат, но ищут обмен.
Долго ли пустовала квартира Штейнов, кого и когда вселили в нее, дом не заметил, поскольку мало-помалу утрачивал интерес к живущим сейчас и все чаще вспоминал тех, кто обитал здесь прежде, — точь-в-точь, как происходит со стариками, устающими от мелькания новых лиц, экстравагантных мод, чужих словечек, и хочется вернуться в самое безопасное, что тебе принадлежит: прошлое. Дом погружался в приятную дрему, из которой его не могли вывести ни сквозняки, ни разбитое балконное стекло где-то наверху, ни хлопающая дверь шестой квартиры. Правда, когда новый жилец — кто он, электросварщик? — с четвертого этажа разбудил Клаву среди ночи, а управдома утром оттого, что протекли потолки в двух комнатах — у меня дети, соображаете вы или нет? — да, в тот день дом очнулся от дремы. Странно, действительно: ведь квартира этажом выше была необитаемой, потому что красавец-капитан не появлялся несколько лет. Когда отперли его дверь, Шевчук только за голову схватился: потолок в центральной комнате просел, как старая корзина, не способная более вместить ни осенние ливни, ни таинственные озера чердака, который открыли вслед за капитановой квартирой. Снова управдом хватался за голову единственной рукой, беспомощно взвыв: «Шо ж ты со мной делаешь…», а Клава, которой этот вопль был адресован, с готовностью зачастила, что она не дура — горбатиться за пиисят рэ да за пьяными лужи подтирать; скажи спасибо, что мой муж дрова обеспечил на весь дом, пиленые-колоные, а мне что, больше всех надо?.. Жена сварщика охотно делилась подробностями: смотрю, вроде капает, ну, я вытерла, а потом, смотрю, опять… Однако все голоса заглушались Клавиными возмущенными криками про пиисят рэ, больше всех надо и пиленые-колоные — такими возмущенными, что с головы сполз платок, явив миру бигуди, круглые, как овечки.
С того дня по лестнице часто ходили люди в перемазанной одежде и с длинными лестницами, зазвучало непонятное слово капремонт, а про чердак стали говорить нехорошее, и мало кто из женщин отваживался развешивать там белье.
Грустно, грустно: чердак лучше всех помнит веселого, обаятельного трубочиста Каспара — не было кухарки, которая не испробовала на нем загадочный женский взгляд: вниз — в угол — на «предмет», как не было ни одного лакомого блюда, не испробованного трубочистом. Вот его любимое чердачное окно, где он сидел в полдень с толстой фаянсовой кружкой, осторожно придерживая тарелку с дымящимся чем-то; ах, Каспар, Каспарчик… Давно нет кухарок, но вздыхает вся черная лестница, хоть не с кем поделиться вздохами, ибо ход на черную лестницу давно заперт и забит досками для надежности, потому как никаких рук не хватит убирать, как утверждает Клава. Теперь все ходят только по парадной, но Клава не намерена за всеми убирать, зато жалуется Соне, что, когда по черной ходили, легче было с уборкой.
Миша Кравцов перенес инфаркт, но не тяжелый; однако курить бросил.
Время от времени в квартире Георгия Николаевича звонит телефон, и это не только деловые звонки, но и традиционные хулиганские, хотя Устал не обижается и ничего не предпринимает.
На тротуаре перед домом изредка появляются нарисованные мелом «классики», но девочки — чьи-то дочки и внучки — быстро теряют к ним интерес. Дети собираются у крыльца, обмениваются жвачками и подолгу крутят в руках разноцветный кубик какого-то Рубика, но дом Рубика не знает — должно быть, он живет в другом доме.
Больше ничего не меняется. Существительные на «мя» по-прежнему склоняются с таинственным наращением, водка подорожала, но в квартире старых большевиков все так же опрокидываются и катаются по полу пустые бутылки. Правда, это больше никого не беспокоит, ведь Фифа со взрослым сыном давно переехала в какой-то новый район, но задолго до этого радостного события похоронила мужа, а еще раньше исчезла ее хмурая дочка, но когда именно это случилось, дом не запомнил. В маленькой квартирке дворника (вернее, Фифы) теперь живет человек средних лет, чей-то разведенный муж, а более ничего о нем не известно.
За Леонеллу дом спокоен: она никуда не уедет. После больницы ей больше не надо ходить на работу, да и вообще никуда: лифта как не было, так и нет, а ноги Леонеллу не слушаются. Каждый день приходит пожилая синеглазая медсестра, которую Леонелла упорно называет Лаймой, делает ей сосудорасширяющий укол, необходимые процедуры, затем пересаживает в кресло, придвигает его к открытому балкону и уверяет Роберту, что есть надежда, есть — инсульт инсульту рознь.
Соборная башня наконец построена. На верхушке уселся золотой петушок, дерзко сверкающий в закатных лучах солнца. Дом горд, что кусочек тени от башни падает и на него… по крайней мере, ему так хочется думать. Башня построена, но Лидия Павловна Краневская не уезжает — предстоят еще долгие реставрационные работы внутри собора. Когда же отделку закончили, имя Краневской Л. П. было вычеркнуто из списка награждаемых чьей-то властной рукой, и обладатель руки заявил во всеуслышание, что собор и башня есть наше собственное национальное достояние и хватит нам, дескать, оглядываться на Кремль — не те времена.