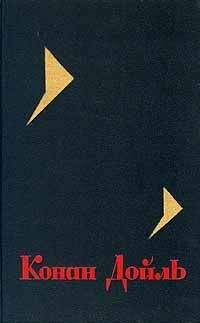Донна Тартт - Щегол
— Нет, — ответил я, когда понял, что надо что-то сказать.
— Ну, если не вдаваться в подробности, был один очень странный звонок. Некто представился твоим поверенным и попросил перевести твои счета в другой банк. А потом мы стали все проверять и обнаружили, что кто-то, у кого есть доступ к номеру твоего соцстрахования, запросил и получил внушительный кредит на твое имя. Ты что-нибудь об этом знаешь?
— Ну, ты не волнуйся, — продолжил он, когда я так ничего и не ответил, — у меня тут есть копия твоего свидетельства о рождении, я отправил ее по факсу в банк, который выдал кредит, и они его тотчас же отозвали. Я сразу оповестил «Эквифакс» и другие кредитные агентства. Ты, конечно, еще несовершеннолетний, и тебе по закону кредит не могут выдать, но вот за долги, сделанные от твоего имени уже после совершеннолетия, отвечать придется тебе. И на будущее прошу тебя — будь поаккуратнее со своим номером соцстрахования. В принципе возможно номер перевыпустить, но столько с этим бюрократических проволочек, что не советую…
Меня пробил холодный пот, когда я повесил трубку, — и я совершенно не ждал такого воя, который вырвался у отца. Я думал, что он сердится — сердится на меня, — но он просто стоял, сжимая трубку, и когда я пригляделся, то понял, что он плачет.
Было так страшно. Я не знал, что и делать. Он кричал так, будто его поливали кипятком, будто он перекидывался в оборотня, будто его пытали. Я оставил его стоять там — Попчик рванул по лестнице вперед меня, тоже явно не хотел этот вой слушать — и пошел к себе в комнату, закрылся там и сел на кровать, обхватив голову руками; хотелось принять аспирин, но не хотелось за ним спускаться, скорее бы Ксандра пришла домой. Вопли снизу раздавались нечеловеческие, как будто отца прижигали факелом. Я вытащил айпод, попытался найти какую-нибудь не давящую на нервы музыку погромче (Четвертая симфония Шостаковича — хоть и классика, но вообще-то на нервы давит), лег на кровать, заткнув уши наушниками и уставился в потолок, а Поппер, навострив уши, не сводил глаз с запертой двери, и волоски у него на холке стояли дыбом.
15— Он мне сказал, что у тебя куча денег, — сказал Борис потом, той же ночью на детской площадке — мы там сидели и ждали, пока наркотики подействуют. Я немного жалел, что мы решили попробовать кислоту именно сегодня, но Борис настоял, сказав, что мне станет получше.
— Ты правда думал, что я не скажу тебе, будь у меня куча денег? — Мы сидели на качелях по ощущениям уже целую вечность и ждали сам не знаю чего.
Борис пожал плечами.
— Не знаю. Ты мне многого не говоришь. Я бы тебе сказал. Да ладно, нормально все.
— Я не знаю, что делать. — Началось все незаметно, но я вдруг увидел, как возле моих ног, в гравии заворочался лениво серый калейдоскоп посверкивающих узоров — грязный лед, алмазы, искорки битого стекла. — Все пошло под откос.
Борис подтолкнул меня локтем.
— И я тебе тоже кое-чего не сказал, Поттер.
— Что?
— Отцу надо уехать. По работе. На несколько месяцев он вернется в Австралию. А потом, похоже, в Россию.
Наступило молчание, которое длилось секунд, наверное, пять, но чувство было такое, что час прошел. Борис? Уедет? Казалось, все замерло, казалось — планета остановилась.
— Ну, я-то не еду, — спокойно уточнил Борис. Лицо его в лунном свете тревожно, электрически вспыхивало, будто у актера в немом черно-белом фильме. — Да в жопу. Сбегу.
— Куда?
— Не знаю. Хочешь со мной?
— Да, — ответил я, не раздумывая, потом спросил: — И Котку тоже?
Он скривился:
— Не знаю.
Кинематографичность стала такой софитовой, такой четкой, что от реальной жизни ровным счетом ничего не осталось; нас усреднило, экранизировало, сплющило; мое поле зрения очертило черным прямоугольником, я видел, как понизу субтитрами бегут реплики Бориса. И почти в это же время я почувствовал, как в желудке проваливается дно. Господи боже, подумал я, запустив обе руки в волосы, эмоции так захлестнули меня, что я толком и не мог объяснить, что чувствую.
Борис все говорил, и я понял, что если не хочу навеки затеряться в этом зернистом мире Носферату, в острых тенях и ахроматизме, то обязательно надо его слушать, а не залипать на неживой фактуре вещей.
— … ну, то есть я вроде как понимаю, — похоронным голосом говорил он, вокруг него кружились частички и капельки тлена. — Для нее это и не побег даже, потому что она совершеннолетняя, понимаешь? Но она однажды жила на улице, и ей не понравилось.
— Котку жила на улице? — я ощутил вдруг неожиданный прилив сочувствия к ней — какой-то срежиссированный, почти что с набирающим обороты саундтреком, хотя сама печаль была до идеального настоящей.
— Ну, и я жил на Украине. Но я был с друзьями, с Максом и Сережей, и всего-то по паре дней за раз. Иногда было даже прикольно. Мы как заляжем в подвале какого-нибудь заброшенного дома — пьем, жрем буторфанол, даже костры жжем, бывало. Но когда отец трезвел, я всегда возвращался домой. А вот у Котку по-другому все было. Один дружок ее матери — он творил с ней всякое. Она и ушла. Спала в подъездах. Просила милостыню, брала в рот за деньги. Школу даже бросила на какое-то время — но она молодец, вернулась, чтобы доучиться, после всего что случилось-то. Потому что — люди-то всякое болтают. Понимаешь?
Мы молчали, раздумывая над тем, как все это ужасно, я чувствовал, будто всего за несколько этих слов пережил всю тяжесть и масштаб и Коткиной жизни, и Борисовой.
— Прости, мне жаль, что мне не нравится Котку! — совершенно искренне сказал я.
— И мне жаль, — рассудительно сказал Борис. Голос его как будто сразу проникал мне в мозг, минуя уши. — Но ты ей тоже не нравишься. Она тебя считает избалованным. Что ты не пережил и половины того, через что нам с ней пришлось пройти.
Это замечание показалось мне справедливым.
— Справедливо, — сказал я.
Миновал какой-то весомый, подрагивающий промежуток времени: трясущиеся тени, помехи, шипение невидимого проектора. Когда я вытянул руку и посмотрел на нее, оказалось, что вся она пошла пыльными точками, будто засветилась, как кусок испорченной кинопленки.
— Ух ты, я тоже вижу, — сказал Борис, поворачиваясь ко мне — каким-то замедленным движением заводного механизма, четырнадцать кадров в секунду. Лицо у него было белое, как мел, а зрачки — черные, огромные.
— Видишь? — осторожно спросил я.
— Сам знаешь, — он помахал светящейся, черно-белой рукой. — Какое все плоское, будто в кино.
— Но ты…
Так не только я это вижу? И он тоже?
— Конечно, — сказал Борис, который с каждый секундой все меньше и меньше походил на человека, а все больше и больше напоминал кусок засвеченной амальгамной кинопленки годов этак двадцатых, за головой у него из какого-то скрытого источника вырывался свет. — Хотя хочется, конечно, чего-нибудь цветного. Ну, типа «Мэри Поппинс»…