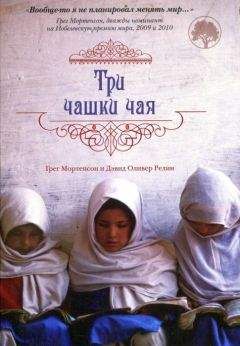Александр Бек - Волоколамское шоссе
— Реально… Только следует оказаться в нужное время в нужном месте. Пусть Волоколамск будет нам уроком. Если вы изучите всю эту полосу, — Панфилов показал на карте широкую полосу местности, прилегающую к фронту дивизии, — если ваш генерал больше не промажет, то и один батальон заставит противника поплясать несколько дней. Вспомните нашу спираль-пружину. Противнику придется развернуться, перестроиться. На это понадобится времечко. Не взводик, а батальон запрет дорогу. Ну-ка, действуйте за противника. Пожалуйста, господин командующий немецкой группировкой, как вы поступите, если на шоссе, на пути главного удара, упретесь в батальон?
Несколько минут я пребывал в роли немецкого командующего. Затем признал:
— Конечно, два-три дня батальон у них отнимет.
— Может быть, товарищ Момыш-Улы, и побольше…
— А потом? А дальше, товарищ генерал?
— Дальше?.. В случае необходимости будем перекатами, рубеж за рубежом, отходить до Истры. Мне не полагалось бы, товарищ Момыш-Улы, вам говорить об этом. Я вам это доверяю как командиру резерва. Будем вести отступательный бой, пустим опять в ход спираль-пружину. Отступление, товарищ Момыш-Улы, — это не бегство, это один из самых сложных видов боя. Не каждый умеет отступать. Нам поставлена задача: не давать противнику возможности быстро продвигаться, изматывать его, удерживать дороги, по которым могут устремиться механизированные силы. А ведь таких дорог — присмотритесь, присмотритесь! — таких дорог не много. Если мы будем умело отступать, то месяц-полтора он потеряет, чтобы выйти на рубеж Истры. Как, по-вашему, это нереально?
Я смотрел на карту, следил за карандашом генерала, за планом боя, еще зыбким, вырисовывающимся лишь в некоторых главных очертаниях, планом, что открывал мне Панфилов. Не скрывая трудностей, он создавал во мне уверенность. Держать дороги… Месяц-полтора проманежить немцев… Это уже не ошеломляло, уже воспринималось как продуманная большая задача.
— Полагаю, — продолжал Панфилов, — что драться придется так: один против четырех, против пяти. Ничего для нас с вами, товарищ Момыш-Улы, это уже не впервой… А через месяц-полтора подойдут наши резервы. Нельзя нерасчетливо бросать их сейчас в бой по малости. Придет срок — и, думается, мы увидим, где же наша армия, где же наша техника.
— Ну, на сегодня хватит, — заключил генерал. — О тонкостях потолкуем в другой раз. На днях переведу ваш батальон к себе поближе, во второй эшелон. Приеду к вам туда справить новоселье. Приглашаете?
Я низко поклонился:
— Милости просим… Угостим вас по-казахски. Приготовим плов. Только с вечера предупредите.
— Хорошо. Повару настроение не испорчу. Теперь вот что, товарищ Момыш-Улы. Хочу вам поручить одну сверхурочную работку. Опишите все ваши бои, все действия батальона. Приложите схемы…
— Слушаюсь, товарищ генерал.
— Трудностей не затушевывайте. Горькое вкушайте во всей горечи. Вы меня поняли? Сколько дней на это вам понадобится?
— Надеюсь, в три дня справлюсь.
— Нет, в три дня не успеете. Берите неделю. Ангел-хранитель нам это позволяет.
Я взглянул недоуменно: какой ангел-хранитель? Панфилов пояснил:
— Ангел-хранитель обороняющегося — время! Знаете, кому принадлежат эти слова? Клаузевицу, одному из выдающихся людей немецкого народа. — Панфилов подумал, повторил: — Немецкого народа… Вы, товарищ Момыш-Улы, никогда не унижали себя ненавистью к немцам как к нации, как к народу?
— Никогда! — твердо ответил я. — Если под знамя свастики, порабощения, встанет мой брат по крови, казах, я и его буду ненавидеть.
Панфилов вдруг вспомнил:
— Да, ведь я вам так и не сказал, что же писал Ленин насчет отступления. Он считал, что искусство отступления столь же важно в нашей борьбе, как и умение беззаветно, смело, безудержно наступать… Писал, что опыт отступления необходимо изучать. Вы поняли, товарищ Момыш-Улы?
Он протянул мне руку, мы обменялись на прощанье рукопожатием.
Выйдя от Панфилова, я взглянул на часы. Стрелки показывали около трех.
Несколько суток назад в этот же час я покинул домик Панфилова в Волоколамске; хлестал дождь, гремели пушки, пахло гарью, все вокруг было застлано мутной пеленой. А сейчас будто вернулась золотая осень. Из непросохших луж, что рябил ветерок, в глаза били тысячи блесток, солнечных зайчиков.
Беззвучно напевая, вскакиваю в седло. Лысанка идет хорошей рысью, несет меня домой — так в мыслях я называю батальон.
15. Каким бы ты ни был…
Вот и деревня Горки… Одна сторона улицы в тени, на другой горят в уже скошенных солнечных лучах стекла окошек.
Лишь вчера мы закончили поход по захваченной немцами земле, вышли к своим. За плетнем дымят три походные кухни. Ага, значит, прибыл наш обоз. У кухонь наряженные из рот бойцы пилят дрова, чистят картошку. А на улице пустынно — роты уже выведены на рубеж. У избы, где поместился мой штаб, осаживаю Лысанку; подскочивший Синченко принимает повод, я прохожу в горенку штаба.
Там уже установлен телефонный аппарат, возле которого дежурит связист. На топографической карте, лежащей на столе, вычерчена оборона батальона. Готовый к докладу Рахимов положил на край стола листок с цифрами о наличном составе подразделений и другими сведениями.
Я проглядываю листок. Уже и без доклада знаю, что батальон вновь крепок, собран, послушен руке командира. Можно прилечь, вытянуться на кровати, отдохнуть телом и душой. Так и поступаю. Валюсь на плащ-палатку, что прикрывает постель, поудобнее устраиваю подушку, расстегиваю ворот гимнастерки.
— Садись, Рахимов… Докладывай.
Ощущая приятную расслабленность, слушаю доклад. Какой-то шум за окнами отвлекает внимание. Поворачиваю голову.
— Рахимов, что там?
Мягко ступая, Рахимов уходит. Минуту спустя он возвращается. Видно, что он взволнован. Эта его напряженность мгновенно передается мне. В комнате ничто не изменилось, но будто глухо забили барабаны.
— Товарищ комбат, разрешите доложить.
— Ну, что там?
— Прибыл Заев с пулеметной двуколкой.
— Заев?
Ярко предстало случившееся на моих глазах: рвущиеся мины, удаляющийся силуэт обезумевшей Лысанки, Заев с хворостиной в руке в пулеметной двуколке. Миг — и двуколка с Заевым, с пулеметным расчетом помчалась за Лысанкой, унеслась с поля боя. И лишь теперь, через два дня, Заев явился. Я вскочил. Размягченности, усталости как не бывало.
— Где он?
— Во дворе.
— А пулеметчики?
— Они тоже здесь.
Овладеваю собой. Барабаны уже не стучат в висках. Застегиваю, оправляю гимнастерку, переступаю порог.
Прорезавшая свежую колею во дворе, заляпанная грязью двуколка стоит в тени сарая. Четыре пулеметчика, что вместе с Заевым бежали с поля боя, жмутся к колесам. Лишь ездовой Гаркуша уже занялся делом, тащит коню сена. Белый маштачок пощипывает еще не убитую морозами, как бы наново в теплый день зазеленевшую траву.