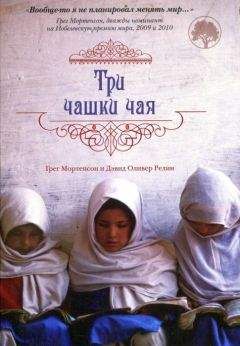Александр Бек - Волоколамское шоссе
— Стой!
На крыльце уже стояли вышедшие нам навстречу некоторые штабные командиры. В центре выделялся человек в кожаном черном пальто с воротником серой мерлушки, в мерлушковой же шапке, что носили генералы. Я узнал крепко сбитую фигуру Звягина. Прокричал:
— Смирно! Равнение напра-аво!
И, обнажив шашку, или, как мы, военные, говорим, салютуя клинком, пошел через всю площадь строевым шагом к заместителю командующего армией. Огромное красное солнце уходило за не застланный облаками горизонт. Багрянец играл на узорчатом светлом лезвии, которое я, печатая шаг, держал перед собой.
В душе переплелись разные чувства: и гордость, и — чего скрывать! — некое затаенное удовлетворение: вот тебе партизан с шашкой!
Звягин не дал мне подойти. Он легко сбежал с крыльца, отодвинул мою шашку, проговорил:
— Брось ты, Момыш-Улы, свой штучки!
Обнял меня за плечи и по-русски поцеловал в губы.
Я со вспыхнувшей вдруг нежностью смотрел на этого генерала с тяжелой рукой, который три дня назад приказал мне сдать командование, а теперь без лишних слов одним объятием, одним поцелуем зачеркнул свой приказ.
Вновь попытавшись салютовать, я произнес:
— Товарищ генерал-лейтенант! Резервный батальон командира дивизии…
— Брось, Момыш-Улы! — вновь воскликнул Звягин. — И людей зря не томи.
Своим мощным, звучащим колокольной медью басом он скомандовал:
— Вольно! Можно курить.
Вынув из кармана коробку папирос высшего сорта, он раскрыл ее передо мной:
— Кури.
Я взял папиросу. Звягин опять запустил руку в карман, и… в его крепких пальцах с блестящими, коротко стриженными, видимо твердыми, ногтями я увидел зажигалку Панфилова. Так вот кому Панфилов ее подарил! Как он сказал? «Преподнес со значением одному человеку…» Вот кто этот «один человек!» Звягин подержал зажигалку меж теплыми ладонями. Знал ли он, с каким значением Панфилов подарил ему эту вещицу? В светлых глазах Звягина, под которыми, как и прежде, набухли небольшие отеки, промелькнула ироническая искорка. Черт возьми, возможно, ему было известно, что Панфилов хотел подарить ее и мне. И тоже со значением! Не обмолвившись про это ни словечком, мы лишь обменялись взглядами.
Чирк — возник огонек. Мы закурили.
— Ставьте большую-пребольшую точку, — сказал Баурджан Момыш-Улы. — На этом мы закончим нашу летопись о батальоне панфиловцев. Двадцать третьего ноября тысяча девятьсот сорок первого года я перестал быть комбатом. Меня вызвали в штаб армии, назначили командиром полка. Свои батальон я передал Исламкулову. Применяя панфиловскую спираль-пружину, огревая гитлеровцев огневыми пощечинами, мой полк отходил — отходил до поселка и станции Крюково. Там, на Ленинградском шоссе, мы выдержали шестидневный бой и вместе с другими частями Красной Армии, поворачивая историю, погнали врага от Москвы. Об этом можно было бы написать еще одну книгу под заглавием «Ленинградское шоссе». Можно написать и «Под Старой Руссой». Но — книга кончена! И в будущем могу обещать вам лишь одно…
Положив свою точеную кисть на рукоять шашки, Момыш-Улы одним махом неожиданно извлек клинок. В полутьме блиндажа засияла узорчатая сталь — та, что сверкнула и в зачине, и только что, в последней главе этой книги.
— Лишь одно, — повторил Момыш-Улы. — Наврете — кладите на стол правую руку. Раз! Правая рука долой! Вы подтверждаете ваше согласие?
Я скрыл улыбку. Мой грозный Баурджан, ты верен себе, характеру, что создан под пером, создан вниманием и воображением. Впрочем, писцу следует быть скромным.
— Подтверждаю, — сказал я.
1942—1960