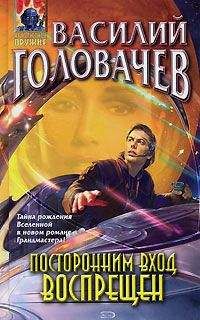Евгений Водолазкин - Похищение Европы
— Брат Никодим займется нашими рукописями, — сказал после паузы отец настоятель.
Он сидел, навалившись на локти и чуть подавшись вперед. Совершенно седой. На его смуглое лицо седина спадала живописными прядями. Она придавала ему старческий вид, хотя на деле, я думаю, он был не старше шестидесяти. Пальцы его нащупали авторучку и легонько постучали ею о стол. Никодим задумчиво следил за настоятельскими руками. Прислонясь к дверной раме, за нашими спинами стоял Иона.
— А о вас мне писал владыка. — Настоятель бросил на меня быстрый взгляд и снова опустил глаза. — Если хотите, можете участвовать в монастырских работах и богослужениях. Можете заниматься своими делами.
Он аккуратно положил авторучку на лежавший перед ним лист бумаги.
— Живите, как считаете нужным, все необходимое мы вам предоставим.
После его вопросительного взгляда на брата Иону стало ясно, что аудиенция окончена. Иона сделал шаг вглубь коридора, и мы встали.
— Вы ведь лютеранин? — спросил настоятель, когда я был уже в дверях.
— Да… По крайней мере, так крещен.
Он молча кивнул и достал из ящика стола целлофановый пакет.
— Владыка благословил одеть вас, как послушника, так что возьмите этот подрясник. Он изменит ваш внешний вид. — Глаза его на мгновение лишились своей тусклой матовости. — Может быть, и внутренний — тоже.
Затем мы отправились на кухню («поварню», сказал брат Иона), где на огромной печи стояли три горшочка с гречневой кашей. Он переставил горшочки на почерневший деревянный стол, достал из шкафа три жестяных кружки и налил в них киселя. По просьбе Ионы, брат Никодим прочитал молитву. Ни древние своды, ни удивительная (и, кажется, не менее древняя) машина брата Ионы не произвели на меня такого впечатления, как кисель и гречневая каша. В тот день я повстречался с ними впервые в жизни. Сейчас, в спокойном своем состоянии, я испытываю неловкость за то, как тогда окаменел над двумя этими (замечу в скобках — весьма почтенными!) продуктами. Я не мог ни есть, ни пить — и не оттого, что это было невкусно. Невидимый шнур перехватил мое горло. В киселе и каше воплотились для меня все драматические перемены последнего времени — выпавшие в осадок, загустевшие и дождавшиеся моего приезда на этой неохватной печи. Кисель и каша изгнания моего. Я ничего не мог с собой поделать.
— Устал… — неуверенно произнес Иона. — С усталости и есть-то не хочется, верно?
Я кивнул, потому что говорить уже не мог. Никодим ел, не отрывая глаз от стола.
— Я знаю, что с дороги требуется. — Иона заговорщицки подмигнул, но это только подчеркнуло охватившую его растерянность. — Есть у меня тут кое-что от усталости.
Он достал из шкафа графин и налил нам с Никодимом вина. В другое время я счел бы это вино не самым вкусным, но тогда-тогда оно меня по-настоящему выручило. Глоток за глотком я выпил налитую мне кружку, и это спасло меня от истерики. В конце концов я даже съел несколько ложек каши.
После еды мы снова помолились и направились к машине Ионы, где все еще оставался наш багаж. Не без труда заведясь, мы пересекли обширное отгороженное стенами пространство — оно называлось Большим двором — и въехали под полуразрушенную арку. За ней начинался Малый двор. Он был действительно поменьше, и построили его, как я узнал впоследствии, значительно позже двора Большого. Если в Большом дворе все, кроме церквей, к монастырским стенам примыкало, то кирпичные постройки Малого двора (их тыл), собственно, и были его стенами, составлявшими вытянутый прямоугольник. Их возводили тогда, когда обороняться было уже не от кого.
В большинстве окон не было не только стекол, но даже рам, и только в дальнем углу прямоугольника, куда мы, очевидно, направлялись, виднелось особо стоявшее строение, отличавшееся от всех остальных. Отличала его не только ухоженность, но и стиль, соответствовавший, скорее, Большому двору. Кстати говоря, в своем первом впечатлении я не ошибся. Гостевой дом — а это был он — оказался современником Большого двора и лишь впоследствии был включен в план двора Малого. При постройке монастыря предполагалось, что помещение для паломников будет располагаться вне пределов обители.
Остановившись у крыльца дома, брат Иона вытащил из багажника наши чемоданы. На второй этаж, где нам предстояло жить, мы поднялись по винтовой лестнице. Как объяснил нам Иона, в противоположной части дома была и другая, широкая лестница, но она, как и вся выходящая на нее часть дома, требовала основательного ремонта. Нам были предоставлены две соседние комнатки, бывшие когда-то одной большой комнатой. В точке, где сходились ее своды, была воздвигнута фанерная перегородка. Обстановка в комнатах — по крайней мере, в моей — была вполне аскетической: сколоченная из гладко оструганных досок кровать, небольшой стол и стул. В ближайшем к дверям углу висел рукомойник. Туалет, как объяснил нам Иона еще при входе, находился во дворе.
— Отдыхай, — сказал Иона. — С дороги полагается отдохнуть.
Он помялся в дверях, словно хотел еще что-то добавить, но, так ничего и не сказав, осторожно прикрыл за собой дверь. За перегородкой раздался деревянный скрип койки, из чего стало понятно, что и мое малейшее движение не останется в соседней комнате неуслышанным. Я разделся и лег с точно таким же скрипом. Если мы с моим соседом научимся все делать одновременно, никто никому уже не будет мешать. На свежевыбеленном полусводе над моей головой зеброй лежали легкие тени. Неровность поверхности потолка придавала ему сходство с вещами нерукотворными. Может быть, с облаками. Чувствуя, как закрываются мои глаза, я поймал себя на мысли, что последний раз засыпал на княжеской даче — не только в другом пространстве, но, кажется, и в другой эпохе…
Я спал глубоко и, наверное, долго. Проснувшись, не сразу понял, где я. Вспомнил. Снова закрыл глаза. Крепко зажал их ладонями, ощущая две круглых дырки в черепе. Вот, что от меня останется через сто лет. Пальцы деловито ощупывали края глазных отверстий. Или через пятьдесят? Не промахнись мой неудачливый однофамилец, все могло бы произойти гораздо раньше. И, кстати, никуда было бы не нужно бежать, гнил бы себе в родном городе. На Северном кладбище, где нашей семьей куплено место и где (Настя бы это непременно отметила) начинается «Смерть в Венеции». Я повернулся на бок и, засунув голову под подушку, дал себе слово остаться в таком положении навсегда.
Я находился в мутном, полубредовом состоянии и, кажется, при этом снова заснул. Когда мне стало душно, я медленно стащил подушку с лица. На корточках перед моей кроватью сидел брат Иона. Принадлежащая мне половина свода была окрашена желтым вечерним лучом.