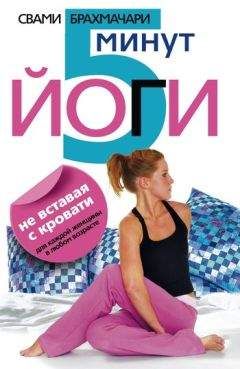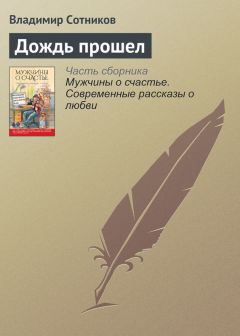Марина Степнова - Женщины Лазаря
Домой. Наконец-то домой.
Мамочка снова обняла ее за плечи, притянула, и ночная улица тотчас, задрожав, поплыла куда-то в сторону, а потом и вовсе расплылась, набухла, вот-вот готовая перелиться и торжественно, как улитка, поползти по щеке. Мамочкино лицо на мгновение тоже исказилось, поехало по невидимым швам, стало уродливым, чужим — на мгновение даже нечеловеческим.
Лидочка, вздрогнув, отстранилась.
— Ты что, Барбариска? — спросила мамочка ласково, и Лидочка, быстро смаргивая влагу, попыталась улыбнуться. Ее вдруг затрясло изнутри мелкой, безостановочной дрожью. В одной пижаме. Вечером. В незнакомом месте. Под дождем. Что это, собственно? Где? Что? Как я сюда попала?
На мать она больше не смотрела. Боялась.
— Барбариска.
Лидочка молчала, глядя прямо перед собой. В кофейне напротив хлопнула дверь. По мостовой плавно проплыл светящийся изнутри автобус, полный беззвучно, как в немом кино, жестикулирующих людей.
— Барбариска!
В мамочкином голосе, возле самого дна, зазвенело тонкое, синеватое, как сталь, недовольство — как всегда, когда Лидочка не слушалась.
— И не думай даже никуда идти, — спокойно сказал Лазарь Линдт, встряхивая и закрывая зонт, заросший живыми ртутными каплями. Он был настолько похож на собственную фотографию, что Лидочка даже не удивилась. Мамочка. Папа. Теперь вот еще и он. Она посомневалась, можно ли называть Линдта дедушкой, или, как и с Галиной Петровной, придется соблюдать какие-то церемонии.
Линдт засмеялся, словно прочитал эти мысли, и, привстав на цыпочки, поцеловал Лидочку в щеку. От него вкусно пахло кофе — настоящим, крепким, с пенкой и коричной палочкой.
— Какие уж тут церемонии, — сказал он. — Зря ты вообще все это затеяла. Давай, дуй скорей домой.
— Домой, — эхом откликнулась мамочка, и Лидочка машинально шагнула к ней, все еще боясь взглянуть, но все-таки — к мамочке. Линдт нахмурился и неожиданно молодым, быстрым движением преградил ей дорогу.
— Я сказал — возвращайся. Брысь. И чтоб я тебя здесь больше не видел.
За спиной у него мелькнуло, шурша, голубое, и Линдт, поморщившись, развел руки, мешая мамочке пройти.
— Быстрей давай, — поторопил он Лидочку. — Ты что, не знаешь, где у тебя дом?
— Нет, — честно ответила Лидочка. — Не знаю.
— Назад обернись, — велел Линдт.
И Лидочка обернулась.
За спиной было окно. Обычное окно в первом этаже немолодого дома — хотя, конечно, должна была быть дверь — та самая, последняя, к которой она шла, старея, анфиладами своего сна. За стеклом, на подоконнике — с той стороны, с которой, Лидочка точно помнила, не было ничего, кроме череды пустых ветшающих комнат, — сидели, освещенные празднично, точно в театре, дети. Мальчик и девочка. Погодки. Девочке было лет семь, и у нее был курносый нос и хорошенькие кудряшки, на которых, как стрекоза на цветке, примостился, большой, в горошек, бант — очень легкомысленный и повязанный явно взрослой, женской, любящей и балующей рукой. Девочка что-то сердито выговаривала мальчику, крупному, сумрачному увальню в тесноватой разноцветной рубашке, и по тому, как мальчик невнимательно и обиженно слушал, было ясно, что он, несмотря на крепкие щеки и преимущество в росте, все-таки безнадежно младше, может быть, даже на целый год, но мириться с этим не намерен, нет, не намерен! Девочка недовольно ткнула его кулачком в круглое плечо и, словно почувствовав Лидочкин взгляд, вгляделась в заоконную темноту — напряженно, серьезно, точно взрослая.
— Кто это? — испуганно спросила Лидочка.
Линдт за ее спиной сухо хмыкнул.
— Ну же, — сказал он. — Думай. Соображай.
Лидочка присмотрелась — и, точно кто-то повернул картонную тубу калейдоскопа, лица детей вдруг распались на отдельные знакомые черты: смоляные завитки Линдта, улыбка мамочки, квадратный лоб Лужбина, ее собственная ямочка на щеке мальчика, тоже принадлежавшая прежде Галине Петровне, а до этого — кому-то еще, кому-то неизвестному по имени, давно забытому, но все равно родному. Кровь, смешиваясь, толчками застучала у Лидочки в висках, в запястьях, отдаваясь в груди мальчика, розовым ярким светом наполняя девочкины губы и веки, пульсируя сразу в миллионе вен — прошедших, будущих, настоящих.
Это мои внуки, вдруг поняла Лидочка. Все не закончилось. Совсем нет. Все продолжается. Но как же тогда? Но почему же? Она шагнула к окну, словно собираясь постучать, и тотчас у нее за спиной страшно закричала мамочка.
— Не пущу! Нет, не пущу! Барабариска!
Лидочка обернулась.
— Быстрее, — сказал Линдт, — ну же, быстрее.
Что-то билось у него в руках изо всех сил, вырываясь, что-то страшное, не мамочка, нет, но оскалившийся Линдт держал крепко, очень крепко, так что Лидочка почувствовала, как напрягаются под сухой кожей мышцы, как сжимают ее сильные мужские руки и все вокруг наливается светом, смыслом и торжественным плеском. Вода, тяжелая, теплая, текла уже не сквозь — а с нее, давай, давай, быстрее, закричал Линдт, я держу ее, возвращайся, давай, возвращайся, и Лидочка с размаху, двумя руками, ударила по оконному стеклу, так что все вокруг на секунду словно застыло, а потом взорвалось и осыпалось миллионом хрустящих сияющих осколков, и она побежала вслед за смеющимися детьми назад, по комнатам — теперь совершенно живым, полным прекрасных людей, дружелюбных собак и старой добродушной мебели. Все сильнее пахло мастикой, яблочным пирогом и можжевеловыми ветками, и все стремительнее приближался свет — ослепительный, плотный, молочный, полный такой радости, что Лидочка засмеялась тоже, а свет все приближался, пока не ударил ее по лицу сильной горячей ладонью, и еще раз. И еще раз. И еще.
— Ну же! — совсем близко, прямо над ухом, закричал Лужбин.
— Ну же, девочка, давай!
И Лидочка очнулась.
Лужбин стоял над ней на коленях, и лицо у него — даже не бледное, синеватое — прыгало, ходило ходуном: дрожали перекошенные губы, подбородок, дергалась изуродованная тиком щека.
— Ты, — сказал он, словно не узнавая, не веря, что Лидочка вернулась, что она вообще могла попытаться уйти. Ты…
Лидочка хотела ответить, но губы не слушались, шелестели, шелестела, уносясь в сток, полная ее крови вода, и отчего-то было очень больно спине, а еще несильно, но длинно ныли щиколотки и запястья, крепко стянутые распущенной на бинты простыней, какой все-таки молодец, умница. Ваня. Догадался. Спас… Спас… Спасибо.
Лужбин наклонился, пытаясь расслышать, и Лидочка, изо всех сил напрягая голос, прошептала — я… Я… Хочу…
— Что ты хочешь, Лидушка? — Лужбин приподнял ее за плечи. — Попить? Водички, может? Сейчас скорая приедет, потерпи, родная. Сейчас уже. Прямо сейчас.