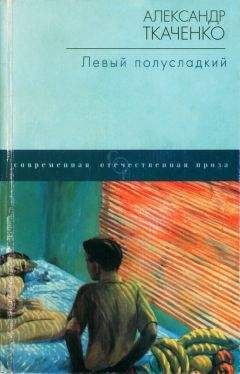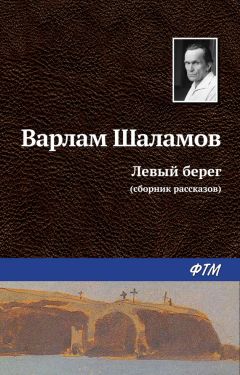Сергей Солоух - Игра в ящик
Долго счастливый Машков кружил по спящей Москве. Смотрел на яркие кремлевские звезды и любовался их отражением в синих водах Москвы-реки. Уже под самое утро он вернулся к себе домой и завалился спать, не раздеваясь, не зажигая света, совершенно удовлетворенный и с чувством победителя.
И только лишь проснувшись в полдень следующего дня, узнал Владимир, каким коварным и подлым оказался сбросивший маскировку противник. Из комнаты художника бесследно исчезло самое дорогое и важное для него и для страны: картина «Стремительный косяк кефали».
* * *
Поистине, в лице госпожи де Сент-Анж вы имеете добрую подругу... Где теперь отыщешь такую искренность? Сколько прямоты в ее тоне, когда она к вам обращается!
В. Д. ПоленовТрудно описать, как провел эти два безнадежных месяца в пустой и обесчещенной коварным врагом комнате художник Машков. Он как будто оглох и ослеп, подобно своему соседу и старшему товарищу Никите Ильину. И брага его не брала. Иногда Владимир выпивал по две суповые кастрюли за день, но все безрезультатно. Тошнотворный гул в его голове ни на йоту не делался тише, а серое беспросветное марево перед глазами становилось лишь гуще. Казалось, цель безродных космополитов достигнута – художник-боец, художник-патриот обречен на гибель и всеобщее забвение.
Но чудо, без которого нет настоящего искусства, и это вам скажет любой из ста шестидесяти тысяч двухсот сорока пяти посетителей художественной выставки «Рабочий полдень, или Праздник труда», не могло не случиться. Однажды под вечер, сквозь грохот и гул в воспаленном мозгу, до совершенно уже отчаявшегося и почти уже потерявшего себя художника долетел телефонный звонок. Долетел потому, что был этот звонок, как нарочно, очень требовательным и совершенно не похожим на обычные повседневные телефонные вызовы.
Старый телефон в коридоре коммунальной квартиры на этот раз не рассыпался обычными короткими трелями с длинными томительными передышками. Телефон звонил непрерывно, без остановок и пауз. Словно сигнал включившейся наконец долгожданной полковой побудки или же общевойсковой боевой тревоги.
– Слушаю вас, – сказал Владимир Машков, когда словно раненый, истекающий кровью боец дополз и наконец дотянулся до черного аппарата.
– Владимир Иванович! – сказал хороший и чистый голос молодой коммунистки на том конце телефонного провода, – не кладите, пожалуйста, трубку. Сейчас с вами будет говорить инструктор отдела ЦК Аркадий Николаевич Волгин.
«Аркадий... – только и успел подумать Машков с нежностью и любовью. – Уже в ЦК, уже в отделе культуры...»
А в трубке тем временем зазвучал такой знакомый, но в соответствии с моментом серьезный и строгий голос старого армейского товарища и командира.
– Мы получили и внимательно изучили ваше письмо, товарищ Машков, – сказал Аркадий, – спасибо вам за мужество и стойкость. Нашим идеологическим противникам не удастся столкнуть наше искусство со столбовой дороги великих социальных преобразований на обочину буржуазного загнивания. Теплокровщики горько пожалеют о том, что подняли голову над тиной своего так называемого пруда...
Сердце Владимира забилось от этих слов с удвоенной энергией, и серая пелена, столько дней и ночей стоявшая перед ним, начала буквально на глазах распадаться, открывая всю гамму таких долгожданных цветов. Красного, синего, желтого.
– Спокойно готовьтесь к осенней отчетной выставке, товарищ Машков, – продолжал говорить где-то там, у себя на Новой площади, старый и добрый товарищ Аркадий Волгин. – Новый состав выставочной комиссии не допустит прежних отклонений от линии партии, можете не волноваться...
Но Владимир не мог не волноваться, душа художника переполнилась счастьем, и, как всякая творческая, непредсказуемая натура, он сейчас же удивил и обрадовал своего высокого собеседника точностью и даже своевременностью художественных ассоциаций.
– А как там наша Угря, Аркадий Николаевич? Простите, что я с вами так по-свойски... Прерываю... Но вы, наверное, видели ее там, когда еще были у себя, в Миляжково...
– Видел, конечно, – ответил Аркадий, нисколько не обидевшись на такую непосредственность человека искусства. Наоборот, голос его вдруг потеплел и стал совсем близким и дружеским. – Угря молодцом! – сказал Аркадий. – И скоро вся страна о ней будет говорить, и, мы надеемся, не без вашего активного участия, товарищ Машков.
Разговор уже закончился, а Владимир все стоял и стоял с телефонной трубкой в руке посреди темного коридора. Счастье и радость переполняли сердце художника.
– Вся страна услышит, вся страна, – повторял он, все еще не веря в этот по всем законам неизбежный, но так долго подготавливавшийся поворот его судьбы.
Когда же наконец взор Машкова совершенно прояснился, а вера в партию и страну как будто свежим воздухом наполнила опавшие было у него за спиной крылья, Владимир начал будить инвалида.
– Никитушка, – говорил художник, тряся погруженного в высокие и чистые мысли гвардии ефрейтора. – В ЦК знают о нашей Угре, в Центральном комитете о ней говорят, о нашей Угре... Понимаешь?
– Об Угре? Понимаю... – сказал Никита Ильин, с трудом открывая залитые думой глаза.
Опершись на руку Владимира Машкова, ординарец майора Деева с огромным трудом поднялся с пола, но встав и широко расставив ноги, он уже не качался, а стоял, как могучий дубок, перед художником. Непобедимый и непоколебимый.
– В ЦК, – радостно повторил Владимир.
– Угря? – еще раз уточнил инвалид, сверкая красными глазами. – Наша, говоришь?
И не успел Владимир в ответ кивнуть головой, как получил сильнейший удар кулаком в грудь. А потом в лицо, а потом еще раз и еще раз. И даже ногой в пах, когда Машков уже упал на пол. Никогда еще так изобретательно и долго не бил художника сосед. Он сломал Владимиру нос в двух местах, а от страшных ударов ногой в грудь кровавая слюна запеклась у Машкова на губах. Но в этом розовом тумане, ослепительной и вдохновляющей боли, слитом неразрывно с именем Угри, с незабываемым образом ее тоненькой белой руки, как флаг, как вымпел, вьющейся в темноте коридора, задание партии показалось Владимиру простым и понятным, как никогда до этого.
Рыба! Одна-единственная, но какая! Рыба-вспышка, рыба-стрела, тонкая длинная молния, словно солнечный луч, ослепительный зигзаг, пронзающая толщу тяжелой зеленой воды. Существо-герой, существо-победитель, безоглядно жертвующее собой ради тех сотен тысяч, что пойдут уже следом, по огненной просеке, пробитой этой одной во враждебной и темной массе бездушного океана.
Луч света, летящий из необозримой бездны наверх, чтобы там, за кромкой мрака, стать неразличимым атомом великого общего дела, навеки соединиться с необъятной бесконечностью солнца. Вот что в случае удачи художественного решения окажется необыкновенным рывком и качественной, давно уже назревшей переменой в творческой эволюции самого художника Машкова, шагом вперед от его прежних полотен, в которых каждый член пусть и единого рыбного косяка еще индивидуален и обособлен, еще формально сам по себе в общем, не знающем преград порыве.
Едва лишь оказавшись в своей комнате, Владимир водрузил на давно уже пустовавший мольберт белое, еще весною загрунтованное полотно и начал писать. Делал он это с неистовством, похожим на ожесточение. Вытирая сукровицу рукавом рабочего халата и сплевывая горлом идущую кровь на старую, верную палитру. Щурясь, отходил Владимир от мольберта, закрывал глаза, вызывая в памяти знакомый, до боли близкий образ, и снова писал... Когда через неделю в окно заглянул вечер следующей субботы, картина была готова.
И тогда обессилевший, но совершенно удовлетворенный Владимир сел за пианино, много лет никем не раскрывавшийся инструмент в углу его комнаты, и заиграл «Аппассионату» Бетховена. Это была именно та музыка, которая соответствовала его душевному состоянию победителя. И тут же все понявший и также возликовавший душой и сердцем сосед Владимира Никита Ильин в ответ включил на полную громкость уже у себя в комнате радиотрансляцию оперы Михаили Ивановича Глинки из Большого театра Союза ССР.
* * *
Несчастное существо, именуемое человеком и брошенное в этот печальный мир вопреки своей воле, сумеет посеять несколько роз на тернистой тропе жизни.
М. И. ГлинкаПостановление ЦК партии, действительно, вышло перед самой осенней отчетной выставкой. Но это было совсем не то постановление, на которое надеялся ловко обведенный вокруг пальца новыми лжедрузьями Николай Николаевич Пчелкин. Подбадриваемый и науськиваемый Полиной Винокуровой, он все лето в одиночку работал на своим триптихом «Миру – мир». Прилежно выписывал уточек, бобров и выдр, надеясь затем также в одиночку купаться уже в лучах грядущей славы.
Но пришлось вместо этого художнику, лауреату, члену-корреспонденту Академии художеств купаться в грязных помоях, в которые его окунула дружба со «знаменитыми, ведущими» критиками, но более всего постыдная и неравная связь с Полиной Винокуровой. Впрочем, досталось на орехи не только ему, скорее жертве собственных слабости и близорукости, нежели сознательному предателю народного искусства. По заслугам получила вся шайка истинных застрельщиков: провокаторов и преступников. Теплокровщики из черного салона «семь сорок», безродные космополиты, интригами и сговором готовившие подкоп под наше советское искусство, все до единого были названы по именам в сентябрьском Постановлении ЦК. Лишены незаслуженно полученных званий, медалей, а самое главное, права редактировать «Большую советскую энциклопедию». А когда был объявлен новый состав редколлегии: академик Михаил Герасимович Камышев, художник-баталист Петр Еременко и певец солнечной Армении комсомолец Карен Вартанян – всем стало ясно: и на этом фронте надеждам Пчелкина не сбыться. Былых идеологических и уже тем более политических ошибок новый, по-настоящему советский состав редколлегии не допустит.