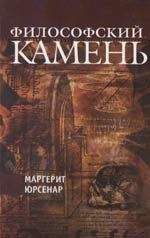Йоханнес Зиммель - Горькую чашу – до дна!
Хотя Ванда имела аттестат зрелости и была необычайно способна к языкам и естественным наукам, она не стала учиться в университете. Она сказала мне своим тоненьким детским голоском, уже не вязавшимся с ее зрелыми формами:
– Не знаю, чем я буду заниматься. Еще не решила. Папа говорит, может быть, мы переедем в Англию. Там живет его брат.
Отец Ванды работал в Далеме, в институте Кайзера Вильгельма. Он всегда казался озабоченным и печальным. Тем летом, бывая на их вилле, я стал замечать, что книжные полки пустеют, мало-помалу исчезает мебель, ковры, гобелены и гравюры.
– Наверное, мы все же переберемся в Лондон, – сказала Ванда. А ее отец однажды попросил нас обоих:
– Постарайтесь больше бывать дома. Не надо так часто появляться в ресторанах и барах.
– Почему не надо, папа?
– Ты сама знаешь. Ванда пожала плечами.
– С Питером я могу ходить, куда хочу.
Тогда я не понял смысла этих фраз. Как я уже говорил, мне было семнадцать и я был гостем в этой стране: я не знал, что в ней происходит. Студия УФА приставила ко мне одного из своих сотрудников, некоего доктора Хинце-Шёна. Этому доктору – низенькому запуганному человечку, – видимо, было поручено удовлетворять все мои желания, успокаивать, когда работу над сценарием будет «заклинивать», устраивать пресс-конференции и заботиться о том, чтобы мои фото достаточно часто появлялись в газетах – в том числе и в иностранных. (ПИТЕР ДЖОРДАН, ЗНАМЕНИТЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ КИНОВУНДЕРКИНД, РАЗВЛЕКАЕТСЯ В ЗАМКЕ «МАРКВАРТ»: «МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ В ГЕРМАНИИ. Я НЕ ХОЧУ УЕЗЖАТЬ ОТСЮДА!»)
Этот же Хинце-Шён однажды открыл мне глаза:
– Поймите меня правильно, мистер Джордан, мы счастливы, что вы здесь, у нас. Мы ни в чем вас не ограничиваем. Да и разве это возможно? Но я хотел бы вам по-дружески кое-что сказать… как частное лицо…
– Прошу вас.
– Эта девушка – Ванда Норден…
– Что с ней?
– Она еврейка. Разве вы не знали?
– Нет. Так в чем дело?
– Да нет, ничего такого! Я просто хотел вас проинформировать, мистер Джордан, просто по-дружески вам сообщить, это в ваших же интересах. Но вы можете, конечно, общаться, с кем пожелаете.
Об этом разговоре я рассказал в доме Ванды.
– Видишь, папа! – ликующе заявила Ванда. – Они не смеют. Питер – слишком важная вывеска для них. Да и без Питера! Я тебе все время толкую, они остерегутся тронуть нас пальцем! Ты им нужен, а то бы тебя давно лишили звания ЕНО!
– Чего бы лишили твоего отца?
– Звания «Еврей, нужный для обороны», – деловито объяснила мне Ванда. – У них тут куча таких ученых. Отец – физик. И еще в тридцать третьем году занимался исследованиями по совершенно секретному заказу. Потому его и держат.
– Долго ли еще продержат? – тихо спросил профессор Норден.
– Если нас припрут к стенке, мы возьмем и уедем в Англию!
– Никто вас не припрет, – вмешался я.
– В самом деле? – переспросил Норден и грустно улыбнулся.
– Пока я здесь, этому не бывать! Я сейчас говорю только со своих позиций и не касаюсь важности вашей работы. Но и при таком угле зрения Ванда права. Я и в самом деле слишком удобная вывеска для них. Кроме того, не верю, что они вообще собираются вновь что-то такое предпринять. Ведь о таких репрессиях против евреев, как в первые годы режима, больше ни разу не было слышно.
5
В конце октября сценарий наконец был готов. Вечно запуганный Хинце-Шён объяснил мне, почему работа над ним продолжалась так долго:
– Скажу вам по секрету, как ваш друг: автор сценария был нетерпим с расовой точки зрения. Нам пришлось его заменить. Мы не хотели обременять вас этими неприятностями. Ведь сценарий вам понравился?
– Даже очень.
– Вот видите! Новый, арийский, автор сочинил еще лучше!
– Как сложилась судьба первого?
– По-моему, он уехал в Париж. Мы не чиним препятствий тем, кто не хочет здесь оставаться.
1 ноября 1938 года супруга профессора Нордена поехала в Цюрих навестить свою сестру. Она сказала, что вернется через несколько дней, поэтому меня удивило, что на прощание она меня поцеловала. Никогда раньше она этого не делала.
Вечером 9 ноября мы с Вандой ужинали у Хорхера. Потом я отвез ее домой, так как она чувствовала себя усталой. По дороге из Груневальда в «Адлон» я увидел на улицах толпы людей и множество грузовиков, набитых горланящими штурмовиками. Где-то пели хором, а на Курфюрстендамм я увидел людей, громящих витрины какого-то универмага. Потом я услышал колокол пожарной команды. Небо над крышами побагровело от пламени.
Портье в «Адлоне» пожимали плечами и отмалчивались, когда я спросил их, знают ли они, что творится в городе. Вид у них был смущенный и сконфуженный, и они старались не глядеть мне в глаза. Кто-то вбежал в холл, задыхаясь, и крикнул:
– Там громят еврейские магазины! Поджигают синагоги! Вся Фридрихштрассе усеяна битым стеклом!
Два штурмовика, сидевшие в холле, подскочили к кричавшему, он сразу умолк, и они увели его.
Я бросился в одну из телефонных кабинок и попросил барышню на коммутаторе соединить меня с номером Ванды, но на вилле никто не взял трубку. Тогда я помчался через холл и выскочил на улицу, где стояла моя машина. Небо окрасилось от пожаров уже во многих местах, и со всех сторон слышались громкие крики и пение, команды и свистки, звон пожарного колокола и разбивающегося стекла. Вечер был теплый и ясный, очень теплый для ноября.
В тот момент, когда я рухнул на сиденье своего «бентли», чтобы ехать в Груневальд, прямо передо мной остановилось такси, и из него, прихрамывая, выскочила Ванда. На ней все еще была полосатая шубка из оцелота, в которой она была у Хорхера. Пока она расплачивалась с шофером, я успел к ней подбежать.
– Ванда!
Она вздрогнула от испуга и резко обернулась, но тут же бросилась ко мне на грудь, начала что-то говорить и так разрыдалась, что я ничего не мог разобрать. Я увел ее с дороги в тень, падавшую от дерева. Через Бранденбургские ворота ехали грузовики, битком набитые горланящими штурмовиками: ремешки фуражек у всех спущены под подбородок.
«Как жидовская кровь брызнет с ножа, мы скажем: жизнь хороша…» Перепуганные насмерть прохожие смотрели им вслед, стоя у края тротуара.
– Что случилось?
– Они… они уже были у нас…
– Где твой отец?
– Профессор Хан его предупредил… он не вернулся домой…
Новая колонна грузовиков. «Выше знамена, плотнее ряды…»
– Папа позвонил по телефону… и передал мне через Франца, что ему придется исчезнуть… немедленно… а мне надо… попытаться найти тебя…
Франц был их слуга.
Марширующие колонны. Горящие факелы. «…СА маршируют, печатая шаг…»
– Но не успела я… что-нибудь сделать… побросать вещи в чемодан… или взять из шкафа хоть одно платье… они уже были в доме…
«…наши товарищи, погибшие от красной реакции…»
– Они выбили окна… ворвались через сад… Еврейские свиньи… Еврейские свиньи…
«…маршируют в наших рядах…»
– Франц немного задержал их. Я выпрыгнула в кухонное окно… помчалась к ограде… перелезла через нее… один каблук сломался… – Она вновь разрыдалась и сказала – никогда мне этого не забыть: – Мои лучшие туфли… сшитые на заказ у Брайтшпрехера… в пандан к моему вечернему платью… – Черное шелковое платье, которое я видел на ней у Хорхера, тоже все еще было на ней.
– Перестань говорить о туфлях!
– Я пробралась на площадь Бисмарка… везде штурмовики… и везде врываются в виллы… возле моста у Халензе я нашла наконец такси…
Новые колонны грузовиков. «Еврей, сдохни! Еврей, сдохни!»
Некоторые из стоявших на краю тротуара отвернулись.
Другие выбросили руку в гитлеровском приветствии.
Я уже полгода жил в отеле «Адлон». Все здесь меня знали. Не могли же все оказаться нацистами. А я по-прежнему был американец. По-прежнему выгодная для них вывеска.
– Пошли! – Я схватил Ванду за руку и потащил за собой. Хотел войти через служебный вход и подняться на грузовом лифте. Я ориентировался в отеле, как в своем доме. Ключ от номера был у меня с собой. Ванда взяла меня под руку и ступала на цыпочках, чтобы никто не заметил отсутствия каблука на левой туфле.
6
После войны я приехал в Берлин уже как солдат американской армии и полгода работал в архивном отделе Главного штаба в Целендорфе. В этот огромный архив мы собрали все материалы о «третьем рейхе» и его фюрерах, какие только смогли найти. Среди сотен тысяч документов было и так называемое «срочное донесение» начальника службы безопасности Гейдриха Герману Герингу, переданное через министериальдиректора д-ра Грицбаха, Берлин Вест 8, Лейпцигер-штрассе, 3.
Вы, наверное, удивитесь, профессор Понтевиво, что я помню этот адрес. Но вы еще больше удивитесь, что я, в моем теперешнем состоянии и по прошествии пятнадцати лет, помню еще и содержание этого донесения, а именно слово в слово, строка за строкой.