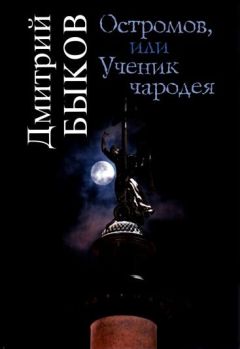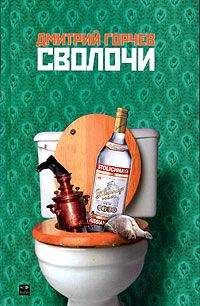Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Что же, на вопрос я ответил, а теперь позвольте мне поговорить с вами по-прежнему, поскольку возможностей для легальной переписки мало, а вашему человеку я доверяю. На случай, если это письмо все же попало в руки шпекиных, хочу их предупредить, что ничего компрометантного не будет — я не связан с эмигрантскими финансистами и переворотов не замышляю. Как я живу, вам известно. Как живете вы, я догадываюсь. Мне трудно представить, что вы читаете это письмо в той же комнате, где мы столько раз сходились кружком любителей древностей, — но еще трудней представить, что я никогда больше не увижу ее, и оттого я предпочитаю думать, что увижу. Месяцы, которые я там прожил, были страшны, но боюсь, ничего важней в моей жизни не было и вряд ли уже будет.
Я пишу к вам без особенной надежды. Мне все чаще кажется, что услышать меня некому и незачем, и хотя я верю, что вы по-прежнему понимаете все, даже эта вера не мешает все время оглядываться: не длинно ли? не скучно ли? имею ли я вообще право? В России, со всей ее пресловутой несвободой — что при тех, что при этих, — у меня не было сомнения в собственном праве по крайней мере на писание. А здесь это сомнение не оставляет меня, и борьба с ним стала чуть ли не трудней самого писания. Меня почти уже нет — я убываю, соглашаясь со все большим количеством невыносимых вещей. Странно, я никому не говорю об этом. Но кому здесь об этом говорить?
Моя жизнь отделяется от меня, и ее уже видно.
Утренние мысли о смерти страшней вечерних. Острота их невыносима. Вечер смазывает, растушевывает, и вся моя надежда на то, что ближе к концу я тоже буду видеть вещи все более смутно — и, может быть, даже во что-нибудь поверю. Мне встречались такие старые оптимисты, для которых мысль о смерти, вопреки логике, делалась все абстрактней с приближением к ней. Некоторые из них — в юности, по их словам, сходившие с ума от ночных страхов, — к старости вовсе не верили, что умрут. Хоть в этом видится милосердие, которого я, увы, не обнаруживаю ни в чем другом. Вся моя надежда теперь, как видите, на старческое слабоумие. Но пока оно не настало — и пока голова, как всегда, ясней всего по утрам, когда я и пишу к вам, — мне тошно, Фридрих Иванович, мне страшно, и не от вечного молчания, которое меня ожидает, а от полной бесчеловечности всего, что меня окружает.
Мир ловил меня, но не поймал — это я могу сказать о себе с полным основанием: ловил, конечно, не как бабочку, а как рыбу, не полюбоваться, а сожрать, — цену этой ловле я знаю, поэтому, верьте слову, никогда не завидовал тем, кто пришелся ко времени, тем, кого он поймал действительно. Иногда, особенно в молодости, мелькнет — вот ведь, люди заняты тем, что как раз и будет впоследствии названо Zeitgeist’ом-неуловимым, неисследимым духом, даже лицом времени. Смотришь на Свинецкого — я, если помните, вам рассказывал о нем, эсер, бомбист, потом комиссар в Гурзуфе, — и думаешь: вот, он… а я… А что, собственно, он? Все равно что завидовать мыши, которую грызет кошка, — только потому, что ты не мышь, а, допустим, пирожное. Все эти герои — особенно в России, где никого не убеждает чужой пример и не останавливает чужая неудача, — в сущности, пища и ничего кроме. Я могу им сострадать, когда ими хрустят, но завидовать не могу, увольте. Мир не поймал меня, — но тут уж я сам должен у себя спросить: для чего он меня пощадил? В лучшие времена есть целый слой таких непойманных, тайное общество затаившихся в складках, как называете это вы, — и они нужны, во-первых, для того, чтобы подмигивать друг другу и внушать, что мы не одни такие (иногда нас действительно довольно много, хотя никогда не большинство), а во-вторых, чтобы делать дело, единственно важное дело. Оно разнообразно, его трудно определить, и если бы не отвращение к красотам, особенно в разговоре с вами, я сказал бы, что дело это — ткать тонкую ткань мира, то есть делать то главное, ради чего и существует в конечном счете вся эта кровь и глина, с ее периодическими революциями, бурлениями и другими чисто физическими процессами. Мир иногда — больше того, всегда — представляется мне в виде людоеда, который хоть и жрет кровавую пищу, но иногда, нажравшись, сочиняет две-три рифмы, и я та самая клетка его мозга, от которой это зависит. Это, конечно, самообольщение, или, если угодно, самооправдание — каждый ведь ладит себе ту картину мира, которая позволяет выжить при его исходных данных, при доставшемся характере и сложении. Но мне в самом деле иногда казалось, что единственный смысл мира, занятого исключительно жратвой, испражнениями и бойнями, — заключается в том, чтобы кто-то когда-то в свободное время придумал две-три метафоры, а для этого надо, чтобы мир ловил меня, но не поймал. И вот теперь, Фридрих Иванович, внимание — хотя в неослабность вашего внимания я верю больше, чем во все свои догадки; думаю даже, вы заметили это раньше меня, и подтверждение вас обрадует. Этот слой больше не может существовать; непойманные больше не нужны, и сам я догадался об этом еще тогда, когда исчезли лишние буквы.
Причины суть многи, и время вычленит единственную. Но поверьте мне — всегда надо верить жертве процесса, ибо из ее положения процесс видней: главным содержанием нашего времени — и, если угодно, всего нашего века, — стоит назвать исчезновение того слоя, который я называю непойманными (слово „интеллигенция“, выдуманное самой интеллигенцией, мне противно — сразу вижу бородатого, неопрятного человека с разрушенной половой сферой, с бородой в крошках, с журналом „Мир Божий“; да кого же и ловили чаще, чем эту интеллигенцию?!). Может быть, это происходит потому, что способы приготовления и пожирания кровавой пищи становятся все чудовищней, и клетки мозга отказываются работать в таких условиях — как, знаете, у иных толстяков мозг заплывает жиром и отказывается производить сюжеты. Может быть, стыдно быть непойманным на фоне толп, марширующих на бойню. Война показала это, а здесь, в Европе, особенно видно, что это была не последняя война. Может быть, она была первой в бесконечном ряду, ибо побежденный никогда не смирится с участью и станет вынашивать месть — не берусь судить, не люблю экстраполяций. Но как бы то ни было, лишних и непойманных в новое время больше не будет — как не может быть прежнего мозга у особи, которая жрет людей уже не тысячами, а миллионами. Отныне все будет иначе, и главный вопрос, который передо мной маячит день и ночь (не о смерти же мне думать, в самом деле), — именно к этому и сводится: время стать чем-то большим, чем лишняя буква. Чем ответим мы на радикальное обновление рациона нашего людоеда? Каков должен быть отряд, количественно все более малочисленный, морально все более уязвимый? Быть нами стало стыдно. Чем мы ответим на это?
У меня нет другого ответа, кроме святости, — особой и внецерковной ее разновидности, но это в самом деле единственное, что можно выдумать. Мир качественно ухудшился до адской, дантовской степени, — и те, кто делает в нем единственное стоящее дело, должны меняться соответственно. У меня нет пока ответа на вопрос о формах этой святости. Не думаю, что она должна сводиться только к борьбе, ибо и борьбы никакой быть не может. Можно, разумеется, приближать крах мира, вызывая разные формы рака у нашего людоеда, но рак хуже самого плохого людоеда, ибо у людоеда все-таки есть мозг и потуги творить, все более редкие, а болезнь не соображает вовсе ничего; да и гибель мира меня не прельщает. Свобода хорошая вещь, пока она не посягает на мои обязанности, мое добровольное рабство, которое мне дороже самой жизни и в некотором смысле заменяет ее. Может быть, об этом я напишу последний свой роман, вовсе уже никому не нужный — ни здесь, ни там: книгу о дикаре, которого приговорили свои и освободил Кортес, и в последний миг он принимается бороться против Кортеса — вместе со своими. Умереть в системе координат лучше, чем жить вне ее; лучше быть последней буквой в алфавите, нежели свободным гражданином в мире, где упразднена письменность. Я ни на что не променяю своего труда, своего плетения тонкой ткани, — но теперь уже этого мало. Непойманные нового века, мозговые клетки нового людоеда должны переродиться, стать новым мыслящим классом, готовым на все и ко всему, — виртуозным в поисках складок, но отважным при прямом столкновении, если нас все-таки настигнут. В восемнадцатом году мне казалось, что я отказался от всего, но если бы вы знали, как много у меня всего оставалось! Здесь я лишился доброй половины этого запаса, но половина еще со мной — живы даже остатки художнического тщеславия, и с ними распроститься трудней всего: это, казалось бы, первое, от чего надо отказаться, — но писать без этого хлыста я пока не выучился. А писание сегодня должно стать чем-то вроде алхимии — поисками чистого совершенства, которого никто не оценит. Когда-нибудь я научусь этому.
Ужас в том, что и нынче, на сорок третьем году не самой бедной событиями жизни, я не знаю, что я за человек, и вряд ли смогу точней сказать это в свой последний миг, когда, говорят, открывается все. (Но кто говорит? Кто успел бы? Чудесно помилованным, случайно спасшимся — не верю: все еще здешнее, отсюда не видно). Желая себе польстить, я сказал бы, что всю жизнь пытался самоопределиться относительно самых тонких, неформулируемых вещей — а других видно, скажем, потому, что для них действительно что-то значил выбор: Гучков или Милюков, синее надеть или розовое… Скажем проще: я прожил вроде того Левши, который умел ковать блоху, но ведь невооруженным глазом этого не видно. А вооруженных глаз было мало, и, может быть, самые вооруженные — ваши, почему я и пишу вам, и большую часть письма трачу, чтобы объяснить, почему пишу. В России такие глаза еще были, здесь их нет совсем, — а те, что чудом вывезены оттуда, мутнеют и не различают уже ничего вокруг. Страшно подумать, до чего русские здесь ничего не видят — ни страны, ни друг друга; разве что себя, и то смутных, полупрозрачных. Это первая примета предсмертия, сумеречного сознания — я заметил как-то, долго едучи в поезде, что в вагонном стекле начинаешь отражаться только под вечер. Пока светло, видишь эти мелькающие станции, поля, грачей, всякую пестроту, — а как начнет темнеть да зажгут в вагоне свет, окружающее исчезает, и видишь себя одного, прозрачное отражение. Тут-то и понимаешь: скоро, должно быть, приеду. Я еще вижу что-то вокруг, всеми силами вглядываюсь в мир, цепляюсь за него — но в нем темно, Фридрих Иванович. Я только не знаю, в моем ли мире темно или во всей Европе, и не знаю даже, что было бы для меня утешительней. Сказал бы, что все-таки первое, — но, боюсь, совру