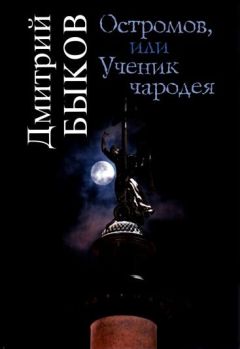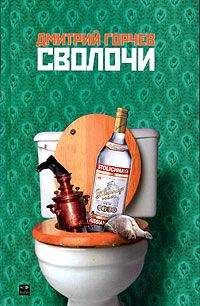Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
— Это, Наденька, потому, что нет способностей, — ехидно заметил Клингенмайер. — Помните, в «Дяде Ване»: когда женщина некрасива, все хвалят ее глаза и волосы. Так и у вас: про способности не скажешь, зато делает добро.
Это спасло положение, все засмеялись.
— Точно, точно, — кивнула она. — У меня никаких оккультных данных. Борис Васильевич говорил, что когда он со мной занимается, все точно об стенку. У меня ни разу еще не получилась экстериоризация, а ведь это обычно удается на третьем занятии. А я с первого раза как-то сразу поняла, что не смогу. Это как в институте, знаете — у нас есть физразвитие, то есть физраз, и я сразу поняла, что никогда не прыгну в высоту.
— Как же можно заставлять человека! — возмутился Клингенмайер.
— Я только сама могу себя заставить, это ужас, — сказала она сокрушенно. — Если бы я поняла, что зачем-то надо прыгнуть в высоту, я бы прыгнула. Но у меня никакого представления, кому станет лучше, если я прыгну. Мне точно не станет.
Даня смотрел на нее во все глаза и с облегчением думал, что она некрасива, что он напрасно придумал ей образ надменной красавицы: в ней всего было слишком, и при этом многое еще по-детски. Она была как подросток-переросток, и внутренне, кажется, чувствовала себя лет на пятнадцать, как и он до последнего времени, — но красота теперь казалась ему таким же ужасным словом, как и добро. Тут снова зазвонил колокольчик, Клингенмайер вышел, и они остались вдвоем. Даня понял, что у них очень мало времени — сейчас войдет новый гость, потом еще, начнется заседание, и тогда уж точно не поговоришь. Надо было сказать что-то главное, и немедленно.
— Я виноват перед вами, — сказал он. — Еще не видел, а уже виноват.
— Господи, да чем же?
— Я думал о вас очень плохо и ругал, где мог.
— Мне никто не говорил.
— Ну да, это хорошо. Но Остромов говорит, что мысль вещественна.
— Знаете, — сказала она очень серьезно, — у меня правое ухо часто краснеет, в последнее время особенно. Я думала, что это ужасная болезнь, а это вы.
— Но не икаете?
— Нет, не икаю. Бог миловал.
— Вы для меня были, знаете… — Он не решался сказать прямо.
— Последней надеждой?
Они засмеялись.
— Они так умилялись вам, в особенности старики. Это не может не раздражать, вы же знаете.
— Ох, не говорите. — Она наконец села, сложила руки на коленях и уставилась в стол, не поднимая глаз. — Если серьезно, это невыносимо. Стоит прийти к больному, и ты святая, стоит сказать старику «Будьте здоровы», и ты мученица. Я не знаю, с кем они сравнивают. Вероятно, это — знаете что? Я только сейчас сообразила, потому что, может быть, у вас действительно способности, и до меня дошла волна ума. Просто им все молодые вообще кажутся чудовищами, а нынешние особенно. И на их фоне то, что кто-то приходит и просто с ними сидит… А я ведь делаю это не потому, что люблю стариков, и даже не по той, знаете, подлой причине, что боюсь одинокой старости. У меня не будет одинокой старости, я, мне кажется, буду в старости умолять, чтобы мне дали минуту подумать о душе, а за мной будет скакать на лошадке сопливый внук и требовать сказку. Но просто у меня есть чувство, что это надо делать, как когда вышиваешь — вы ведь вышиваете, я знаю, — оба прыснули, — вот, когда вышиваешь, всегда есть чувство, что иглой надо ткнуть туда. Или когда рисуешь: иногда просто физически — надо туда штрих. Я рисую прилично, плохо, но прилично. У меня все штрихи на месте. Непонятно только, что нарисовано, но чувство, водившее мной, — она смеялась все громче, все счастливее, — чувство передано верно. Почему мне так смешно с вами?
— Ну, вы, наверное, думали, что я страшный человек, в очках, с оккультными способностями. А я простой, нос у меня толстый…
— У вас очень смешная внешность, да, — сказала она серьезно. — Комическая, гротескная внешность. Вы так же уродливы, как я благодетельна. Есть ли лучшее общество для добродетели, чем уродство?
И так как оба они знали цитату, то засмеялись снова. С Варгой он никогда не знал, что сказать, а здесь можно было сказать все. Он испугался себя. Вдобавок умница Клингенмайер с новым гостем не шел подозрительно долго, давая им наговориться.
— Все как-то слишком быстро, — сказала она. — Хорошо, что мы там не виделись.
— Точно. Мне было бы совсем не до Остромова.
— Мне сказал Фридрих Иванович, что сегодня будет интересное письмо.
— Мне теперь и не до письма будет, — сказал он.
— Нет, надо слушать. И что это я так развеселилась, в конце концов. Вы, может быть, совсем не то, чем кажетесь.
— А чем я кажусь?
— Честно? — Она прищурилась, и Даня понял, что она близорука. — Человеком, человеком до мозга костей, со всеми слабостями, присущими этому виду.
— Вашими бы устами, — сказал он.
— Конечно, конечно, я не пошла бы за вами босиком на край света, — сказала она уверенно, точно разубеждая кого-то.
Это были все новые и новые стадии близости, которые они миновали стремительно, словно оба падая в пропасть или с той же скоростью возносясь — но не зря в трактате о левитации особенно удавшийся взлет назывался глубоким.
— Знаете, я часто думаю, что это и хорошо. Но скажите, если бы вы за кем-то — или лучше чем-то — пошли бы босиком на край света, взяли бы меня с собой?
— О, — сказала она, — это безусловно. И я попросила бы вас нести валенки, на случай, если ослабеет моя решимость.
— Что он там так долго, — тревожно сказал Даня.
— Вам скучно со мной?
— Нет, я просто боюсь, что я к вам привыкну, а потом они все-таки войдут, и будет совсем невыносимо.
— Он ушел навсегда, — сказала она страшным шепотом. — Теперь мы хранители лавки. Вы бывали у него?
— Один раз, недолго.
— А теперь все это наше. С этими вещами очень трудно управиться — вы знаете? Они выходят из повиновения, начинают ссориться. Утром проснешься — все стекла перебиты. Только Фридрих Иванович удерживает их от бесчинств. Здесь есть один кофейник, он плюется кипятком, и есть английский дверной молоток, он колотит всех, напоминая, что на свете есть несчастные люди, главным образом в голодающей Англии…
— Какое сегодня число? — вдруг спросил Даня.
— Двадцать пятое сентября.
Она не спросила, зачем ему это, и он оценил.
— Представляете, я двадцать раз уже прожил двадцать пятое сентября, — сказал он, — и понятия не имел, что это за число.
Тут вошел Клингенмайер и с ним двое — молодой человек, очкастый, сдержанный и насмешливый, и сорокалетний гражданин с бухгалтерской скучной внешностью и такой же скучной папкой; они одновременно поклонились и заняли места за столом. Надя и Даня одновременно встали, представляясь новым гостям.
— Николай, — назвался насмешливый.
— Иван, — басом сказал вылитый бухгалтер.
— Ждем еще троих, и можно начинать, — сказал Клингенмайер, и тут радостно залился звонок, словно узнав любезного посетителя.
2«Милый Фридрих Иванович!
Прежде всего отвечаю на ваш вопрос: человека, о котором вы спрашиваете (тут Клингенмайер слегка замялся при чтении, маскируя эвфемизмом фамилию), я знал, но весьма бегло. История его с Морбусом мне известна в общих чертах, и она ничем не отличается от множества тогдашних историй, иногда дуэльных, иногда просто скандальных. Морбус держал салон, якобы для широкого круга (для узкого были сборища, куда попадали избранные, и я не стремился; рассказывали, конечно, об оргиях). Там он многозначительно вещал, похожий на горбуна-профессора, у которого в руках вся преступность Лондона. По-моему, все это было смешно, а мода на эти дела была так противна, что заставляла презирать даже то дельное, что могло в этом быть. Я всегда любил кружки, сборища, тайные братства — но скорей как сюжетный ход: в жизни это — как любой прием — поражает ложью и какой-то грубостью, которую трудно объяснить. Безрукость, например, хороша в мраморной Венере, домыслы и все прочее, а представьте настоящую красавицу с культяпками? Вот почему я не любил всех этих тайн и знаю только, что означенный герой прибыл из Италии, подделав диплом о их степенях, а потом, пользуясь этим дипломом, соблазнял женщин из морбусовой ложи, привлекая их трехпланным посвящением. Вспоминать обо всем этом теперь смешно, а тогда был большой скандал, но только в оккультной среде, куда я не вхож. Посвящение первого плана сводилось к беседе, второго, насколько понимаю, к объятиям, а третьим планом шло нечто такое, за что он и вылетел из всех иерархий с полным разжалованием, без права заниматься этими соблазнительными штуками. Был демон, а стал так себе домовой. История в брюсовском вкусе, и, кажется, он даже написал что-то подобное, — человек, о котором вы спрашиваете, долго пытался переломить общественное мнение, и это мне скорей импонировало. Кажется, им действительно двигало понятие о чести, пусть жульнической, странной, но это ведь лучше, больше, чем выгода. Выгода, кстати, в те времена была прямая — масонство было едва ли не модней хлыстовства, вы сами помните, сколько было всех этих лож, великих Моголов, арканов, тайных знаний, посвящений, египетских древностей и алтарных курений. Собираясь у вас, мы тоже в это поигрывали. И все-таки при встрече он не показался мне чистым жуликом — что-то в нем было, уязвленное самолюбие, может быть, или слишком глубокая вера в то, что его трехпланные посвящения в самом деле имели оккультный смысл. Не смейтесь. Я знал людей, искренне убежденных, что самая грубая похоть приближает их к богам, и Василий Васильевич, редкая, по-моему, мерзость, был из этой породы, и многие верили ему. Словом, он пришел ко мне с просьбой написать правду о Морбусе и своем незаконном разжаловании, тряс итальянскими бумагами и выглядел страшно оскорбленным — это было даже трогательно, как, знаете, иной взломщик сейфов бывает обвинен в карманной краже и пылко доказывает, что сейфов он выпотрошил сотни и готов отвечать за это хоть сейчас, но до карманной кражи не унизился бы и с голоду, а какой голод, когда у него в кармане вот сейчас — и показывает разыскиваемый всей европейской полицией брильянт. Я слышал, так арестовали Пуришкевича. У него в доме был обыск, и он так обиделся на солдата, который его не узнал, что немедленно открылся: „Дураки, Пуришкевича не знать!!!“. Он рассказывал о десятках проделок, которые на взгляд человека трезвомыслящего были чистым жульничеством — со всеми этими посвящениями, реликвиями и кассами взаимопомощи, — но от соблазнения и любой грязи по женской части отказывался так решительно, что я уж почти зауважал его. Писать статью с разоблачениями Морбуса я, понятно, отказался, потому что ничего в оккультизме не смыслю и никакого масонства всерьез не принимал, если не брать в расчет несчастных просветителей екатерининского века. Больше о вашем герое я не слышал и рад, что он жив. Все, что уцелело от тогдашнего Питера, теперь мило, — а поскольку уцелеть может прежде всего жулик, думаю, любимым героем новой прозы станет именно он. Начальству будут внушать, что разоблачают его, а втайне, само собой, полюбуются человеком из нашего блистательного времени, казавшегося тогда таким гнилым.