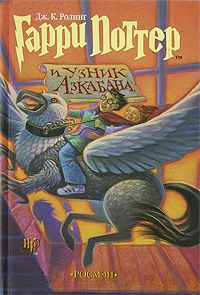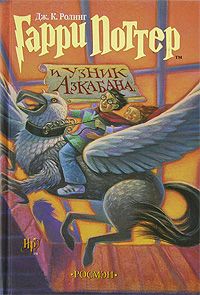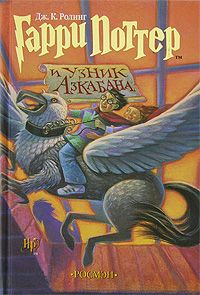Умберто Эко - Пражское кладбище
В декабре был созван военный совет. Появился еще один документ — письмо военного атташе Италии Паниццарди к германцам. Писавший упоминал «эту каналью Д.», от которого якобы купил планы каких-то укреплений. «Д.» означало «Дрейфус»? Никому и в голову не приходило усомниться. Лишь много спустя выяснилось, что «Д.» означало «Дюбуа», а Дюбуа был мелкий служащий в министерстве, сбывавший разные сведения по десяти франков штука… Но тогда было уже поздно. Двадцать второго декабря Дрейфуса признали виновным. В начале января месяца его лишили звания во дворе Высшей Военной школы. В феврале должны были отправить на Чертов остров.
Симонини был на торжественной церемонии разжалования, в дневнике описывается впечатляющий ритуал: выстроенные в каре части, Дрейфуса ведут почти километр вдоль рядов соратников, а те, сохраняя бесстрастие, выражают ему все свое презрение. Генерал Даррас обнажает саблю, фанфара поет тонким голосом, Дрейфус в парадном обмундировании строевым шагом приближается к генералу. Его конвоируют четыре артиллериста под командованием сержанта. Даррас оглашает приказ о разжаловании. Громадного роста жандармский офицер в пернатой каске приближается к капитану, срывает галуны, пуговицы, полковой номер, отнимает у того саблю и ломает ее о колено и с размаху кидает обломки к ногам предателя.
Дрейфус невозмутим. Многие журналисты специально отмечают это и находят здесь очередное доказательство его коварства. Симонини вроде бы слышит, как во время церемонии тот воскликнул: «Я неповинен!», однако держась прямо и не склоняя головы. Саркастический Симонини сказал себе: гляди-ка, еврейчик до чего крепко присоседился к французским офицерам с их культом достоинства. Не ставит под сомнение решения командования, и коли начальство решило, что его надлежит разжаловать как предателя, он подчиняется приказу, не сопротивляясь. Может быть, даже в тот миг он тоже думает, что предал. А о невиновности своей твердит, потому что это с его точки зрения входит в сценарий.
Симонини так запомнил этот эпизод. Но потом он нашел в старой папке вырезку из «Репюблик франсэз», подписанную каким-то Бриссоном. В газете сцена описывалась совершенно по-другому:
Когда генерал бросил ему в лицо позорное обвинение, он заслонился и прокричал: «Да здравствует Франция, я неповинен!»
Жандармский чин тем временем заканчивает. Золотые нашивки сорваны и лежат на земле. Даже красные полоски, отличительный знак рода войск, выхвачены с мясом. В своем доломане, который теперь одного черного цвета, в кепи, потерявшем все краски, Дрейфус кажется облаченным в одежду каторжника… Он все время выкрикивает: «Я неповинен!»
За оградой толпа. Толпе виден только силуэт Дрейфуса. Из публики летят проклятия, резкие свистки. Дрейфус все это слышит, исступление наблюдателей совсем сокрушает его.
Когда его проводят мимо находящихся в строю офицеров, те кричат: «Убирайся, Иуда!»
Дрейфус яростно дергает головой и снова и снова повторяет свое: «Я неповинен!»
Теперь нам удается разглядеть его черты. Мы смотрим на него несколько секунд, рассчитывая увидеть какую-то тайну, услышать какой-то голос души, к которой только судье удавалось приблизиться и заглянуть в ее укромные тайники. Но на его лице царит только злоба, злоба, доходящая до исступления. Губы растянуты в ужасающей гримасе, глаз налился кровью. И мы понимаем, что приговоренный так стоек и воинствен с виду именно потому, что его подхлестывает бешенство, рвущее в клочья нервы…
Что скрыто в душе этого человека? Какие движут им побуждения? Почему он так яро защищает идею невиновности? Надеется, может быть, сбить с толку общественное мнение, поколебать нашу уверенность, кинуть тень на приговоривших его судей? Промелькивает в сознании и мысль жгучая, будто молния: а если он действительно невиновен? Какая адская пытка!
Симонини, переписывая это, не испытывал ни малейшего угрызения, поскольку он-то в вине Дрейфуса был уверен, сам и сделал его виноватым. Но, что говорить, несоответствие его воспоминаний и этой статьи в газете свидетельствовали о том, до чего дело Дрейфуса разбудоражило страну и как каждому виделось в нем то, что хотелось видеть.
И все же, пошел этот Дрейфус к черту. На Чертов остров. Пошел совсем. Симонини он больше не интересовал.
Оплата, которую ему тайно передали, далеко превзошла любые его расчеты.
Приглядывая за ТаксилемВ течение всего времени, как помнит Симонини, он не выпускал Таксиля из виду. Особенно потому, что о Таксиле много говорили в окружении Дрюмона, причем дело Таксиля интерпретировалось поначалу как сомнительный курьез, а позднее — как достаточно раздражающий скандал. Дрюмон считал себя антимасоном, антисемитом и серьезным католиком и на свой лад был таким. Соответственно он не мог терпеть, чтоб священными хоругвями козырял какой-то ловчила. Что Таксиль — ловчила, Дрюмон утверждал с самых давних времен и изрядно продернул его в книге «Еврейская Франция», твердя, что все антицерковные писания Таксиля опубликованы издателями-евреями. Шли годы, их отношения все портились и портились, поскольку в них привходила политика.
Что было дальше, мы знаем от аббата Далла Пиккола: оба самовыдвинулись в ходе муниципальных выборов на должность советника парижской мэрии, причем в расчете на один и тот же электорат. Начались открытые боевые действия.
Таксиль опубликовал «Месье Дрюмон, психологический этюд», в котором с едким сарказмом критиковал противника за неуемный антисемитизм, считая, что антисемитизм приличествует не столько католикам, сколько социалистической и революционной печати. Дрюмон ответил памфлетом «Завещание антисемита», где сомневался, точно ли Таксиль сделался честным католиком, припоминал неприятелю всю грязь, которой тот поливал в свое время святой престол, а что до попустительства Таксиля по отношению к еврейству, то это, настаивал Дрюмон, вызывает ряд самых тревожных вопросов.
Учитывая, что в одном и том же 1892 году начали выходить и «Либр Пароль» — боевой политический листок, заклеймивший панамский скандал, — и «Дьявол в XIX веке», который трудно назвать вызывающим доверие изданием, понятно, по какой причине Дрюмонова газета беспрерывно клевала Таксиля и со злорадным хихиканьем комментировала его умножавшиеся неприятности. А хуже всякой критики, ехидничал Дрюмон, вредили Таксилю некомильфотные попутчики. По поводу таинственной Дианы то и дело публиковались фривольные откровения авантюристов, все они хвалились близким знакомством с женщиной, которую, вероятно, никогда не видели.