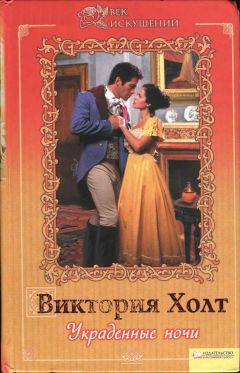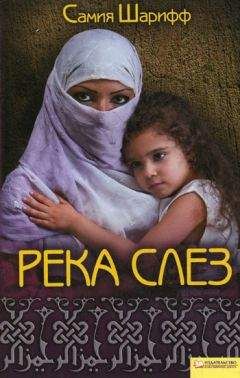Елена Катишонок - Свет в окне
Они удалялись от станции. Справа оставалась насыпь и рельсы, впереди виднелись деревья.
– Мы не знали тогда, что ссылка – это еще не конец жизни. Мы даже не знали, как далеко нас повезут. А бедному Коле только месяц оставалось жить – в концлагере погиб.
Идя вперед (дорога поднималась в гору), он не знал тогда, что в старом ящике валяется фотография «Аякса», отцовского кузена, и, хоть он уже бывал прежде в том доме и разговаривал с дочерью «бедного Коли», не мог предположить, что сам же эту фотографию когда-нибудь найдет.
А ведь судьба намекала, подсказывала; разве нет? Что-то ведь заставило пойти в студию при Союзе писателей – не сценарий же читать с листа, в самом деле. Он помнил, что машинистка читала рассказ, а с нею женщина была пьяная, у которой роман украли. Трудно поверить, что он туда пришел случайно – был толчок, чтобы решился; и пятно на стенке у машинистки в квартире долго стояло перед глазами.
Все на месте – и стенка, и пятно.
Дорога шла в гору, но мать не замедляла шага. Обогнули лесок, миновали две гигантские цилиндрические башни непонятного назначения, перешли мост.
– Кладбище, – мать кивнула в сторону. – Здесь папины родители лежат.
К кладбищу вела ровная снежная дорога. По обеим сторонам дороги зябли на февральском ветру высокие деревья.
– Клены, – вздохнула мать. – И раньше здесь клены росли, чудесная аллея была. Твой дед в молодости сажал. Их в войну вырубили под корень; это уже новые вымахали, молодые.
Почувствовать красоту, некогда здесь бывшую, не получалось, да и погода мешала. Природа в феврале напоминала пустую квартиру, в которой идет ремонт: серые разводы от старой краски и разлитые белила. Весь день был серый, и тонкие черные ветки деревьев над головой выглядели, как трещины на потолке.
Дом он узнал еще прежде, чем мать успела что-то сказать. Узнал, несмотря на то, что не увидел гравиевой дорожки – если она и сохранилась, то была покрыта плотным снегом. Узнал не потому что вспомнил, а каким-то внутренним чутьем. Если бы не оно, прошел бы торопливо мимо, скользнув взглядом по надписи «ШКОЛА» и по замерзшей гипсовой фигуре пионера, стоявшей перед лестницей на веранду. Никого вокруг не было. Воскресенье; школьники – живые, а не гипсовые – отдыхали.
Карлушка обошел пионера. Снег на ступеньках лежал чистый, не истоптанный. Верхние переплеты окон были составлены из разноцветных стекол.
Откуда взялась в нем эта прочная уверенность узнавания? Разве мало встречал он похожих домов, хотя бы на взморье или в пригороде, с похожими верандами и ступеньками, с разноцветными квадратиками и ромбами стекол, не говоря уже о гравиевых дорожках? И все же, и все же… Так хозяин быстро и безошибочно выбирает из связки одинаковых на вид ключей один, вставляет в замочную скважину, и замок послушно щелкает. Что-то подобное Карл ощутил, поняв, что именно сюда тянуло его все это время. Понял и то, что второй раз он не приедет – ни весной, ни даже летом, когда гравиевая дорожка, промытая снегом и дождем, окружит дом и сделает его еще больше похожим на дом его детства, только постаревший и уменьшившийся в росте. Дом, который помнит маленького мальчика на теплом полу, медленно передвигающего руку за солнечным лучом от одного цветного пятнышка к другому.
Не надо тревожить покой старого дома.
Глухой кашель из коридора вернул Карла в сегодняшний вечер, давно перешедший в ночь. Кашель, медленное шарканье, тупой стук палки: Старик, молча и упрямо живущий свою одинокую, наглухо запертую от всех жизнь. Так ничего не зная об этом человеке, ничего в нем не поняв, Карл переедет в другую квартиру и забудет о сутулой фигуре в вязаном жакете с растянутыми карманами, о желто-серых ушах, о палке, без которой Старика уже трудно было представить.
Развод, размен…
Досадная, раздражающая суета; но как привыкнуть к мысли, что Ростик будет жить с Настей и ее новым мужем в Москве? При мысли об этом все внутри начинало болезненно ныть. События между тем разворачивались быстро, и Настя с мальчиком уже уехали: учебный год в разгаре, вторая четверть самая короткая. Несколько раз Карлу удалось поговорить с сыном по телефону. Ростик ждал каникул: каждое лето он проводил на хуторе.
На звонок отвечал ровный мужской голос: «Слушаю вас». Карлушка здоровался, называл свое имя и просил к телефону Ростика. Голос вежливо отзывался: «Да-да, пожалуйста», и после этого говорил куда-то в сторону: «Ростислав!». Человек не отвечал на приветствие, но это искупалось мягкой, извиняющейся какой-то, интонацией.
Ничего плохого о своем преемнике Карл сказать не мог. Неожиданным оказалось разве что быстрое его появление. Когда Гена Кондрашин узнал, что Карлушка разводится, он первым делом спросил: «И кто он?». Дождался, пока тот закурил, и назидательно пояснил: «Женщина не уходит в никуда, в туманную даль. Если ушла, то к другому».
Его можно было понять. Жена подала на развод, не только не сказав Генке ни слова, но и продолжая готовить ему завтраки и ужины и «не игнорируя другие супружеские обязанности», как он ехидно выразился, зато в суде жаловалась на его «грубое и агрессивное поведение». В результате чего осталась жить в кооперативной квартире, ради которой Кондрашин из года в год ходил в одном и том же свитере и в столовой ел один суп. В квартиру же незамедлительно вселился муж номер два – не инженер, а начальник цеха на мясокомбинате. «Вот посмотришь, – говорил Генка, – твоя тоже не будет жить одна. Свято место пусто не бывает».
Степан Васильевич Баев не имел никакого отношения к мясокомбинату – он был работником советского торгпредства в ГДР. Как Настя с ним познакомилась, Карлу известно не было, но каким-то образом, он догадывался, это связано с Германией, куда жена ездила несколько раз – то по теткиному приглашению, то по путевкам, которые стали доступней с тех пор, как она сменила работу. Как бы то ни было, намерения у торгпреда Баева были серьезными. Не последним обстоятельством явилось, наверное, и то, что он недавно овдовел. Работа между тем настоятельно требовала его присутствия в ГДР, а присутствовать там он мог только будучи женатым: Министерство иностранных дел по-своему решало задачу о курице и яйце.
Встреча Карла с торгпредом произошла, когда тот помогал Насте – своей новой жене – перед отъездом. Вошли двое мужчин, и Карл не сразу понял, кто из двоих герой новой пьесы, пока вперед не шагнул коренастый человек лет пятидесяти с высоким лбом под коротким седоватым бобриком волос. «Вы готовы?» – обратился он к Насте, после чего кивнул второму на чемоданы. Таксист, догадался Карлушка, когда тот ухватил вещи и скрылся за дверью. Или у него свой шофер?.. Однако все это вспомнилось уже потом, а в тот момент он отчетливо видел только сына. Ростик, немного чужой в новой заграничной куртке «на вырост», стоял у письменного стола и держался рукой за угол. Плечи куртки были широкими, и Ростик выглядел в ней каким-то жалким, хотя не хотелось думать о сыне таким словом, но – да, он был жалким, потому что было жалко его, такого хрупкого и родного. Настя что-то начала говорить про обмен, и торгпред ее прервал: «Вы предупредили, Настя?..». Карл удивился уважительно-отчужденному «вы» и не сразу понял, что «предупредить» о чем-то собирались именно его, бывшего мужа. Настя не претендовала на жилплощадь (она так и выразилась), поэтому обе комнаты поступали в полное распоряжение Карла. «Не хватало, чтоб она у тебя еще и кусок коммуналки оттяпала, – резюмировал Кондрашин. – В Москве небось у него хоромы ого-го! – И добавил: – Ты у нас теперь богатый жених: две комнаты. Не хило… Если что, – Генка подмигнул, – ты ключик-то дашь, по холостому делу?»