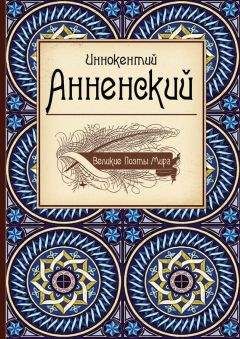Майгулль Аксельссон - Апрельская ведьма
— Вообще-то здесь не курят, — произносит дамочка, не опуская бровей. — К тому же мы с социальной службой не сотрудничаем.
Биргитта открывает рот, но не находит слов. Блин! Дался ей этот бутик! Ведь Маргареты тут нет. Развернувшись, она устремляется к двери, звенит колокольчик, но все равно слышно, как дамочка пожелала ей заходить еще.
Опять заштормило, улица вздымается и опускается под ногами. Нужно ухватиться за стенку, чтобы не шмякнуться, — а сил-то почти не осталось. Колени подламываются, и уже никуда не хочется идти, — упасть бы, лечь посреди этой качающейся улицы и уснуть.
Если бы только не было так больно!
Прижав ладонь к диафрагме, она ковыляет дальше. Хорошо, что там болит, с болью не заснешь. Опасно в такую холодину укладываться на улице, можно насмерть замерзнуть. Никто не прикроет ее одеялом и не подоткнет под голову подушку, свенссоны попросту перешагнут через нее как ни в чем не бывало. Рассчитывать приходится только на себя, поэтому она прислоняется спиной к витрине и упирается ладонями в стекло. Вот она чуточку постоит, отдохнет, соберется и опять пойдет искать Маргарету.
Кто-то распахивает дверь бутика совсем рядом с ней и выходит на тротуар. Биргитта не в состоянии даже открыть глаза, чтобы посмотреть, кто это, но когда уже ясно, что этот кто-то никуда уходить не намерен, она все-таки чуть-чуть приоткрывает веки. Перед ней стоит Маргарета и натягивает перчатки. На локте у нее висит бумажная сумка. Она купила цветы.
— Я бы хотела получить мои сигареты, — говорит она. — И кстати, не утруждайся напрасно и не напускай на себя трагическую мину. Я не собираюсь тебя жалеть.
***Жалеть?
Разве Биргитта когда-нибудь просила, чтобы ее жалели? Никогда. Ни разу в жизни.
Притом что к ней самой всю жизнь относились как к калеке, словно она хромая, или горбатая, или глухонемая. Собственно, только Эллен и Кристина никогда ее не жалели. И бабка, само собой. Эта была злющая и вообще никого не жалела, только смеялась своим кудахчущим смехом и повторяла, что жизнь, как ни крути, во многом справедлива, все получат по заслугам, особенно под конец.
Иногда Биргитта просыпается по ночам и явственно слышит ее смех, но это, конечно, только кажется. Бабка умерла уже сколько лет назад, и Биргитте трудно представить ее в роли привидения. При жизни она только снисходительно хмыкала, когда Гертруд приносила домой истории о привидениях, и после смерти наверняка осталась такой же. Сидит себе где-нибудь на облачке, поджав губы и скрестив руки на груди: если она сказала, что нету никаких привидений, значит, нету — она, во всяком случае, не намерена никому являться, и не уговаривайте.
Вообще-то при всей своей суровости она любила посмеяться. Например, по утрам, когда причесывалась перед зеркалом.
— С добрым утречком! — неизменно приветствовала она собственное отражение. — С чего это мы сегодня так молоды и прекрасны?
Биргитта обычно сидела на кухонном диванчике и наблюдала за ней. В раннем детстве ей казалось странным, что бабка считает себя молодой и прекрасной, сама она ничего красивого не находила в этом расплывшемся теле и бледном обрюзгшем лице. Волосы, которыми бабушка так гордилась, тоже были совсем не красивые. Когда утром она расплетала свою ночную косу, они лежали на спине прямые и тусклые. И бесцветные — ни у кого на свете больше не было таких волос, вообще лишенных цвета. Когда много лет спустя Биргитта врубила телевизор в каком-то из учреждений принудительного лечения и ненароком услышала слова американского астронавта — о том, что самое удивительное в лунной поверхности — это отсутствие цвета, — ей сразу вспомнилась бабка. Женщина с волосами цвета лунного грунта.
Однако бабка своими волосами никогда особенно не занималась, быстренько их расчесывала, собирала на затылке и скручивала колбаской, а потом натягивала старые сапоги и шла глянуть на линию.
Дед был путевым обходчиком, и жили они в путевой сторожке у самых рельсов, в маленьком красном домике посреди Эстергётландской равнины, в километре от проселочной дороги и в полумиле от ближайшей крестьянской усадьбы. Хотя усадьба эта была скорее не крестьянская, а господская: ее пашни простирались до самого забора путевой сторожки. Бабка говорила, в том большом белом доме вдалеке есть дети, но пусть Биргитта себе не воображает: такие дети не играют с детьми разных там путевых обходчиков.
Одной играть в садике тоже нельзя было, потому что опасно. В любой момент девочка могла выпереться на рельсы, как однажды — совсем еще крохой — уже и сделала. Бабка нашла ее на одной из шпал: она лежала, прижавшись носом к пахнущему смолой дереву. Рельсы уже запели, бабушка успела схватить ее в последнюю секунду. Не подоспей бабка, зарезало бы Биргитту, как ягненка, это ясно.
Свои первые слова Биргитта произнесла после того, как они тогда вернулись в сторожку, — бабка часто об этом рассказывала. Сперва она получила положенную трепку, а потом протопала на середину комнаты, встала там и прохныкала тоненьким голоском:
— Гитта не дурочка!
Если верить бабке, странная она была девочка. Вы слыхали, чтобы малыши вот эдак начинали разговаривать? Обычно они сто лет твердят «ма-ма» и «да-да», прежде чем от них дождешься чего-нибудь разумного. Не то что Биргитта: до трех лет молчала как рыба, а потом сразу заговорила совсем чистенько. Она и ходить начала не как все дети. Ходила она, только держась за бабкин фартук, но той как-то надоело, что ребенок путается под ногами, она взяла и сняла фартук. Биргитта не заметила и на сумасшедшей скорости протопала по всей кухне, не упав и даже не ударившись. Но стоило забрать у нее фартук, как она шлепнулась и заревела, видимо уверенная, что без этой тряпки в руке просто не сможет ходить.
Кроме этого, Биргитта мало что помнит о своем раннем детстве, словно она все шесть лет просидела там, в сторожке, на кухонном диванчике, ничего не делая. Деда она видела редко. По утрам он долго спал, а когда просыпался, у него было столько дел, что домой он приходил только к вечеру. Биргитта считала, что он весь день ездит туда-сюда по линии на своей дрезине. Ей ужасно хотелось покататься с ним, но это было нельзя, на дрезину маленьких детей не пускают.
У деда на одной руке три пальца были скрюченные, так что он не мог их распрямить. Когда он как-то посадил Биргитту на колени и она вцепилась в его потемневший безымянный палец и попыталась выпрямить, то ничего не вышло. Пальцы не гнулись уже давно, отчего рука напоминала клешню. Гертруд, в очередной раз навестив их, шепнула Биргитте, что старик сам виноват, он порезал себе жилы в пальцах — напился как-то и перевернул кухонный стол.