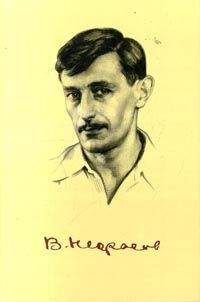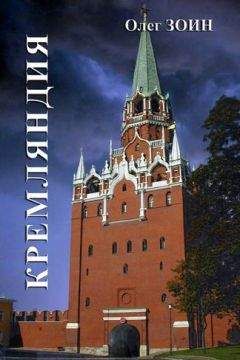Олег Зоин - Вчера
— Ну что ты, Сенечка, не вздумай обидеться! Я же так просто болтнула про всех. И если ты хочешь, то и пойдём сюда! — И она кивнула на страшную дверь. — Да мне и самой, честно говоря, любопытно!..
Надо ли опровергать, что Серба за свою долгую бурную жизнь бывал в ресторанах не так уж и часто. Не то чтобы не любил в них развлечься или строил из себя трезвенника, а просто всегда в конкретный момент не густо было с деньгами, которых уйма уходила на одеться и обуться соответственно времени. Но виду он не подал.
Швейцар в зелёном с жёлтыми, под золото, кантами мундире провёл их в зал, где почти все столики оказались заняты. Сеньке удалось отыскать глазами свободный стол у окна, и они направились туда.
Казалось, все мужики в зале, а гудели в основном они, любимые, нагло уставились на Ирину, и Сеньке захотелось крикнуть, перекрывая оркестр, неграмотно, но приятно наяривавший «Маригуану»: — Чего уставились, жлобы?..
Наконец, подошёл официант в неопрятной засмальцованной поварской куртке, артистично–небрежно смахнул на пол со скатерти крошки и объедки от предыдущего пиршества и принял заказ. Серба попросил по салатику, чахохбили, бутылку муската и сладости на усмотрение начальства. Официант приторно–любезно уточнил насчёт сладостей у Ирины, но она, затрудняясь, сказала, что будет есть любые.
На удивление быстро на столе появился яркий, как лето, салат из помидор, две порции пышущего жаром и жиром чахохбили из цыплят в красном, как перец, и в действительности состоявшем в основном из жгучего перца соусе. Мясную композицию завершали, как последняя находка общепитско–поварской изобретательности, ломтики лимона.
На коробке конфет красовались мрачные чёрно–коричневые шахты, перехваченные голубой ленточкой графика с цифрами предстоящего роста добычи угля в 1960–1965 годах. Никакой связи с кондитерской промышленностью рисунок на конфетной коробке не представлял, но конфеты, как потом оказалось, оказались классными.
Мускат тоже как для господ — приличный «Прасковейский».
Ирина при виде такой обильной снеди ужаснулась и всплеснула руками:
— Сенечка, неужели мы съедим эти штуки?
— А почему бы и нет? — Не согласился Серба, наливая в рюмки муската.
— Скажи тост, Иринка, — попросил он. И она, неожиданно даже для самой себя, сказала:
— Давай за то, чтобы ты больше не приводил меня сюда!
Ирина с трудом одолела рюмку, хотя вино ей понравилось. Серба сидел ужасно гордый, с независимым видом поглядывая на соседние столики, и настолько осмелел от вина, которое он упорно продолжал пить один, что пригласил Ирину танцевать. Соседи давно уже наперебой приглашали её, но она отказывала, не желая обидеть Сенечку, безмятежно улыбаясь и уничтожая конфеты.
Дело шло к закрытию заведения культуры и разврата, официанты, нагло позёвывая, уныло убирали с опустевших столиков грязную посуду, оркестранты запаковали инструменты в чехлы и направились к буфетной стойке распить на дорожку по рюмке. Ирина опомнилась и прошептала:
— Давай мы теперь убегать будем. Сенечка, ведь если я приду после двенадцати, то мама пускать меня больше по вечерам не будет! После того случая в парке у неё совсем с нервами плохо…
Без двадцати двенадцать они быстро расплатились и выбежали на улицу. Там уже, оказалось, успел пройти дождь, и чистенький влажный асфальт отражал огни зданий. Поддерживая Ирину, Серба забрался с ней в автобус, первый подвернувшийся, и они понеслись по ночным улицам. В ресторане вино ненадолго развеселило и расслабило Сербу, а в автобусе настроение стало падать.
«Действительно, — пришло ему в голову, — зачем я потащил Иринку в этот непристойный кабак, где все на неё так похабно глазели?!»
Потом ему вспомнилось недавнее посещение Людмилы, заточённой в убогом больничном изоляторе. Он не мог до сих пор отойти от её нелепой болезни, от бессилия врачей, от предопределённости жуткой судьбы, не мог полностью выбросить данный случай из головы.
— Мне кажется, что ты грустишь, отчего? — Притронулась Иринка к его рпстревоженной душе нежными губами сочувствия.
— Да–да, конечно, — откликнулся Серба и начал медленно, то и дело останавливаясь, чтобы вспомнить детали, рассказывать ей историю с Людой.
— Как же так, — завозмущалась Ирина, — на другие планеты собираемся лететь, а человека спасти не в силах. До чего же слабы мы, люди!..
— Да, ты права, пока что слабы, и человек не всё может, но зато он всё хочет мочь, а это уже, согласись, немало для начала. И что меня особо, Иринка, сбило с толку, так то что мерзавец тот из типографии даже ни разу в больнице не появился, а ведь ему звонили! Ну, попадись ты мне!.. — Закипел Серба.
— А я бы таких вешала! — Простодушно–кровожадно заметила Ирина.
Вскоре они выбрались из автобуса и за пару минут дошли до Садовой, к небольшому домику из красного кирпича, стоявшему в глубине яблоневого сада на окраине Чаривного посёлка.
Сенька крепко обнял Иринку, а она в ответ прямо приклеилась губами к его губам. Но вдруг скрипнула калитка и Иринка пружинно вырвалась из Сенькиных объятий и рванула к дому, потому что поняла — мама не спит и выходит на улицу загонять гуляку в дом.
Насчёт намеченной с Глюевым рыбалки ему так и не пришло на ум переговорить с Иринкой…
Лодка тупо уткнулась в песок, и первым с неё соскочил распатланный, возбуждённый Евстафьев, по–своему приглашая высаживаться:
— Вылазьте, чертяки полосатые, — завопил он на всю округу, — а не то — назад отвезу!
И окрик его действительно был необходим, потому что от долгого сидения у Клавы Глюихи позатекали ноги, сам Вовка Глюев тоже волновался перед празднеством, причёсывая пятернёй свой совершенно лысый череп, а Серба заглушил «Стрелу» и, блаженно разгибая и невероятно хитро свивая руки, выламывался на корме. Жена Евстафьева Тамара стеснительно натягивала на заголённые белые коленки трепещущий от ветерка подол и мечтала выйти из лодки последней.
Наконец, разгрузились, и оказалось, что добра навалено на берегу порядочно. Мужики призвали Клаву и Тамару разобраться в барахле и подготовиться варить первым делом уху, так как по обещаниям мужей выходило, что вскоре они станут обладателями богатого улова. Послушать их, так у самого берега, там, где потрясает чёрными узловатыми мослами сучьев коряга, стоят в тихой заводи, согнанные умными сторожевыми щуками, в ожидании рыбаков несметные полчища судака, окуньков, карпов карповичей, и, на худой конец, жирых пузатых карасей.
— Но караси костистые, твари, я их буду обратно выкидывать, — пообещал Евстафьев. Тёзка его Глюев притащил тем временем из лодки удочки, подсечки, детское, с красными яблоками по борту, ведёрко с червями, баночку из–под чая, где, если открыть, радовала знающего человека коллекция крючочков, блесен, грузил и грузилок, поплавков, мармушек, просто пробок и моточков капроновых лесок, и ещё и ещё множество всякой всячины. Прижав к тому же под мышкой правой руки болотные сапоги, он уволок драгоценные премудрости для мужских забав в направлении коряги.
Так получилось, что была задумка сплавать порыбачить на Старый Днепр, а по ходу пьесы Евстафьев переиграл и направил лодку к Хортице, к строящемуся железнодорожному мосту. А в этом месте особо не нарыбачишь…
Удручённый вчерашней забывчивостью, Серба тем временем лазил под прибрежными кустами, собирая сухие хворостинки, жухлую траву, сучки и прочий хмыз.
— Мёртвое дело, — заметил на всякий случай, стоя за спинами Глюева и Евстафьева, нигилист Сенька после того, как умело разложенный им костёр взметнулся ввысь, потрескивая на влажном песке. Клава чистила картошку, Тамара с ведром ушла вдоль берега в поисках особо чистой воды. Рыболовы суетились, бегая поминутно к коряге, чтобы проверить удочки. Однако они уже натаскали с десяток не очень видных краснопёрок, попутно рассказывая друг другу невероятные истории.
— Туман садится, рыба спать уйдёт, — смиренно отметил Евстафьев, прикуривая сигарету от окурка Сербы. — Ты говоришь, мёртвое дело, а почему? Вот если б ты сам умел таскать, тогда б я поспорил с тобой, а так ведь что, непонимающий ты в окуне человек, Сенька…
— Как раз и не угадал, Вова, смыслю кое–что. И если уж на то пошло, расскажу тебе случай один, хочешь — верь, хочешь — нет, был со мной в прошлом году на Рябом острове. Тоже вот так, или в сентябре, или в начале октября…
Рыболовы насторожились, прислушиваясь. Расположившийся неподалёку старикашка тоже обернулся на громкое начало.
— Так вот, поехал я с одним соседом своим, Фёдором Иванычем, что в театре Щорса на вешалке работает. Сидим вот так, как вы, и дёргаем, сидим и дёргаем. Ведро мелкоты до обеда надёргали, а стόящего ничего не попадается. Подзаправиться уже собрались было, когда у меня как следует потянуло. А я на камне сидел. Начал я осторожно выводить зверя. Вижу уже, что пудовая щука на гаке, руки трясутся, боюсь за удилище, а за леску — спокойный, чехословацкая, двухпудовую гирю вытерпит.