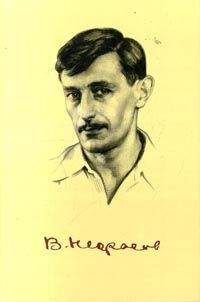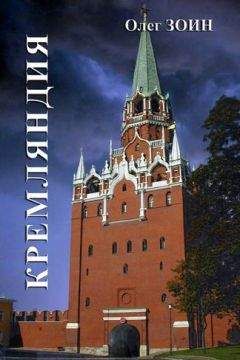Олег Зоин - Вчера

Обзор книги Олег Зоин - Вчера
Олег Зоин
Вчера
Запорожье — Набережные Челны
Самиздат
1960–2008
Часть 1‑я
Серебристые облака упований
И вот он понёсся, как бешеный конь, долгожданный 1955‑й. Зимняя сессия у Семёна прошла ровно, ни одного «хвоста». Так что стипендия в 230 рэ обеспечена. Ещё полдня мучительного сражения за билет на Курском вокзале, и Сенька Серба помчался домой, в родной город на Днепре.
Валюша опять уклонилась от встреч и разговоров, поэтому в Запорожье получился пустой номер. Удрученный неудачей, холодно простившись с матерью, раньше намеченного вернулся Сенька в Москву. Анна Николаевна так и не смогла растопить лёд непонятного сыновнего отчуждения и протоптать тропинку к его окровавленному сердцу.
И вновь потекли мрачные дни. Учёба, как учёба, в общем, скукота жуткая. Конечно, учиться на юрфаке МГУ считалось немалой жизненной удачей, однако вскоре науки приелись, всё вокруг как–то потускнело. Да и прогулов получалось немало. Просто так, от лени и от неприятия казёнщины и лицемерия на факультете.
Доцент–марксист любил проводить коллоквиумы по коммунистической теории. Обычно они проходили очень весело. Азартно спорили умница Витя Месяцев, прозванный за скрупулёзную дотошность в аргументах Догматиком, и Семён Серба, получивший кличку Диалектик, — возможно, за казуистическую гибкость формулировок.
Жаркое лето 37‑го… В стране — человекотрясение. А в кухоньке хаты деда Калистрата липкая духота. Кусючие мухи. Сенькина нянька соседская Тонька, ей было тогда лет 15–16 (её мать, старая Калэнычка, — соседка Сенькиных деда–бабы со стороны колхозной конюшни), возится с двухлетним Сенькой, пытаясь напоить молоком из кружки. Он вредничает, капризничает. Она берёт его на руки и пытается утихомирить убаюкиванием. У неё на руках уютно и привычно. Сквозь ситчик летней кофточки ему приятна ласка пружинистых грудей, он прижимается к ним щекой и ему уютно, но ещё по инерции он завывает затихающим нытьем.
Заходит кто–то из взрослых мужиков и подначивает Тоньку (Сенька ещё не разговаривает, только отдельные слова, поэтому не донесёт, и дядьке не опасно попохабничать):
— Ты ему сиську дай, вон они какие у тебя уже, как дыни!.. Сразу успокоится…
Тонька краснеет, быстро отнимая Сеньку от себя и усаживая на лавку. Её чувство стыда передается ему, и он с ненавистью смотрит на мужика. Тот гогочет и уходит… Сцена врезалась в память.
Конец лета. Мама взяла Сеньку на какое–то время в город. У неё комнатка на Слободке, улица Кошевая, 17. Дело к вечеру, солнце уже низко. Семён ещё не ходит, и это беспокоит маму. Во дворе, в нескольких метрах от них с мамой, сидят на лавочке двое мужчин из семьи хозяев Мозулевских.
Один из них ласково зовет Сеньку к себе, приманивая жестами тяжёлых загорелых мужских рук. И вдруг Сенька отрывается от мамы и неуверенно идёт к дядьке и проходит–таки всю дистанцию, падая на финише в его крепкие руки.
— Пошёл!.. — изумленно кричит мама. Все дружно смеются…
— Ну вот видишь, Анька, — басит мужчина, — теперь не переживай, такой орёл далеко пойдёт!..
Сенькины довоенные воспоминания носят смутный, отрывочный характер. Так как он большей частью воспитывался у бабушки Ефросиньи Петровны, поэтому первые и самые прекрасные его жизненные впечатления связаны с поэтичным украинским хутором Казачьим, раскинувшемся двумя недлинными улочками вдоль бывшей речечки, впадавшей, продираясь сквозь чащу камыша, в небольшой пруд, по–украински, конечно, называемый ставок.
Бабуся очень любила животных — коров, свиней, гусей, кур. Коровам она давала имена цветов. На Сенькиной памяти в те годы были Роза и Астра. Всегда в хате жил кот. Одна серая кошка Тинка прожила в доме много лет. Сенька любил летом возиться с кошками. Сильное впечатление — котенок, которого он тормошил, почему–то недомогал. На следующий день он издох в страшных судорогах. Из его рта вывалился клубок белых червей. Дедуля, ветеринар ещё дореволюционной выучки, брезгливо отбросил котёнка ногой, затем подхватил штыковой лопатой и отнес за хату, где закопал на пепелище. После этого сполоснул холодной колодезной водой руки (гигиена — наш принцип!) и так красочно объяснил Сеньке, что есть такое глист, что он до сих пор содрогается от этого слова.
Это объяснение, впрочем, не помешало Сеньке сходить погодя попереживать на могилку котёнка на пепелище, под развесистой бузиной, куда дед и бабка относили золу, в которой так охотно купались куры.
Руки всегда были безнадёжно черны и заскорузлы от возни с землей, однако земля грязью не считалась, и поэтому было достаточно их перед едой вытереть видавшим виды полотенцем. По утрам, правда, не каждый день, в целях закалки и бодрости внук с дедом через раз умывались из ведра колодезной холодной водой, так, слегка, для приличия — пару раз, смеясь, плескали в лица с ладошек.
Вообще, гигиена была в том беззаботном хуторе на высоте. Можно было по неделям не мыть руки, мыло туалетное ценилось дороже экзотических раковин с тихоокеанских островов. Оно сберегалось бабусей в сундуке ради приятного парфюмерного запаха, напоминавшего ей одеколон.
Но зато когда изредка, раз в два–три месяца, приезжала мама, то отношение к мылу резко менялось. Увидев дорогую гостью из оконца кухни (мама шла обычно ближней стороной улицы, затем продиралась долго через неогороженный, заросший вишенником палисадничек, и была узнаваема издалека), бабушка кликала Сеньку, выхватывала из сундука новый кус мыла, розового и сумасшедше пахнущего, и успевала разок умыть внука, поспешно вытерев рожицу не очень часто стиравшимся передником, так что когда сияющая мать, переводя дыхание, переступала порог и Сенька кидался к ней на шею, то ей не оставалось ничего другого, как радостно воскликнуть:
— Какие вы чистенькие, какие хорошенькие!
Бабуся при этом стояла в стороне, с гордостью потирая руки и приговаривая, что как же, не хуже, чем в городе живем, — и чистота и прочие блага у Сенечки в изобилии…
Тотчас начинало опорожняться и всем показываться содержимое тяжеленных сумок, притащенных мамой, которая жаловалась на то, как она растерла ноги и как устала. Привозила она обычно уйму конфет, которые до сих пор упорно именует «конфектами», бутыли с рыбьим жиром (лечить сыночкины простуды и хилость) и всякую детскую одёжку.
Рыбий жир ставился на окно в парадной комнате с наставлениями пить его ежедневно (а лучше ежеминутно) и так и оставался там пылиться нетронутым до её следующего приезда.
Сенечка оказался болезненным, простудным малым, с вечными соплями, свисавшими до колен (во взрослые годы он понял, что это была неизвестная тогдашним врачам аллергия, преследующая его всю жизнь), прочно закутанный в тысячу одёжек и платков, так что часто перегревался и ещё больше простуживался. Теперь уже, с высоты лет, можно твердо сказать, что простудная хилость — его постоянное хобби, он в этом деле специалист.
По случаю приезда матери бабуся резала придержанного на сей случай и откормленного петуха и готовила тут же борщ с петухом, а на борщи она была мастерица…
К вечеру, после сытного обеда, начинались бесконечные рассказы о Запорожье, о том, как там, в городе, удивительно люди живут.
А то, иной раз, вспоминали страшный голод 33‑го года, как вымирали целые хутора и сёла. Бабушка при этом непременно говорила, что выжили благодаря матэржэныкам. Сенька даже рецепт их приготовления запомнил. Ну, собирается трава крапивы, спорыша, лебеды, калачики… Отваривается… Перемешивается со всякими вышкребками из бадей и бочек, лепятся такие себе вроде котлетки… Их присаливают и поджаривают на остатках олии, если есть, или на жире сусликов… Бабушка говорила, что вкуснятина страшная… К счастью, Сеньке попробовать матэржэныкив не выпало, и он так и не узнал, чего в матэржэныках больше — вкуснятины или страшного…
Когда через несколько дней наступал час маминого отъезда, Сенька вставал рано со всеми взрослыми и провожал мамочку до ворот — насчет её отъезда деда обыкновенно договаривался с председателем, чтобы маму взяли на забитый до отказа сельхозпродуктами и бабами «ЗИС‑3», спешивший в Запорожье на воскресный базар. Сенька при этом ревел, возможно, что искренне, и просил маму взять его, сопливого, с собой. Надо ним смеялись загорелые колхозные бабы, огромными курицами громоздившиеся в кузове на мешках и корзинах, зисок натужно трогал, выбрасывая, как Везувий, облако ядовитого выхлопа, и уносился в далёкую сказочную городскую жизнь. А Сенька, сказать правду, забывал об уехавшей матери раньше, чем на улице успевала осесть пыль, поднятая мощной техникой, какой являлись тогда автомобили завода имени Сталина — легендарные ныне ЗИСы с зелеными фанерными кабинами.