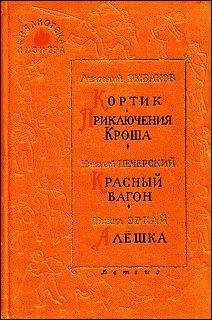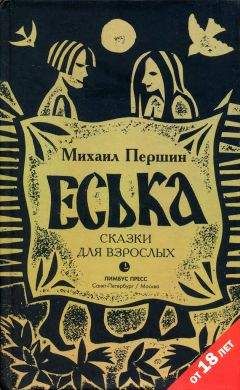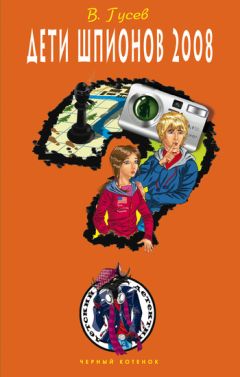Ворон на снегу - Зябрев Анатолий
В один из вечеров, когда уже совсем стемнелось, и мы сидели возле разведённого костра, вокруг отдыхал на прогретой за день земле усталый наш скот, обозначаясь бесформенными силуэтами, в этот-то час к нам на поляну от недалёкой дороги свернули жёлтые фары автомобиля. Из машины вышел человек, он остановился в нескольких шагах от костра и некоторое время наблюдал в безмолвии. Свет пламени освещал его лишь по грудь, а голова оставалась во мраке. Потом человек спросил:
– А на мою долю чифирчик найдётся? Землячки! – и громко расхохотался. Это был Чуря, у него такой смех: мягкий, чувственный и одновременно жёсткий, в колонии этот мстительный смех испытали на себе многие. Засмеется, значит, жди от него подлянку.
Младший сержант сделал движение рукой к оружию. Чуря остановил его тем же насмешливым уверенным голосом:
– Чудить не надо. Не терплю чудиков, – и присел с нами.
На пальцах Чури перстни крупные, на одной руке и на другой, и часы жёлтого металла, и цепочка на шее поблескивала жёлтая, и распятье на цепочке жёлтое, вываливающееся из распахнутой на груди рубахи. Этого всего нельзя было не заметить.
– А мне говорили, тут твои земляки шатаются. Экспроприацией занимаются, хвосты быкам крутят, ну, думаю, найду. Вот вы, оказывается, братишки, где… Как живётся-служится?
– Нормально, вот… – отвечали мы.
– А домой когда? – после некоторого молчания спросил он.
– Да вот, как служба, – отвечали мы в голос.
После опять молчание, он говорил:
– Ну, теперь уж вам всё равно недолго. Хоть так, хоть этак, а уж недолго.
– Может и недолго, – отвечал Ванюшин. – Хорошо, если бы так. Если бы недолго. Дома, на Чулыме-то…
– Да, – сказал Чуря. – А мне вот гулять здесь. Так вот… На Родину-то заказано. Эх, братухи, заказано…
Этот парень был явно наполнен до краёв горючей тоской. Может, встреча с нами и ввергла его в такое настроение, а может, это чувство уж постоянно с ним гуляет по чужим этим краям, полным вина, фруктов и разного шмотья.
Да, чувствовалось, подошёл он, неприкаянный, к нам от тоски, снедающей его бесшабашную душу. Душа жаждала общения. Однако разговора не получалось. Он молчал, и мы молчали. Трещал в костре подкидываемый хворост, стонали в темноте животные.
Ванюшин вдруг начал рассказывать о том, какая летом на берегах Чулыма благодать, эх, благодать!
– Пучки нарастут, шкерды, саранки в березняках. Наберёшь, бывало, сядешь с пацанами на поляну, начистишь и хрумкаешь, хрумкаешь. Во, вкуснятина.
Я тоже слабел от таких сладких воспоминаний. Кто же может забыть ароматно-сахарный вкус мясистого, зеленовато-прозрачного стебля пучки и горьковатый вкус шкерды! Как-то у Ванюшина случился откровенный разговор с местным бауэром, тот говорил, что худшей жизни, чем в Сибири, не бывает, что в Сибири ничто не растёт, Ванюшин же сердился и доказывал, что на Чулыме жить лучше, чем у них тут, что вместо фруктов ягоды разные растут и грибов побольше, чем по берегам Дуная – белянки, рыжики, сыроежки, грузди...
Мы сидели под могучим, распухшим от парного воздуха, деревом, по-русски называемым «шелковица», над нашими головами высоко в небесную темноту поднята широкая крона, от слабого дыхания ветра падали на землю и на наши головы мягкие, истекающие медовым соком, плодики, можно подставить ладонь и ловить эти плодики, набивать ими рот. Ванюшин не ловил. Потому что, говорит он, в сравнении со шкердами, с пучками, какие дома на Чулыме, разве это деликатес! Чувствую, всем бойцам близка логика Ванюшина. Вне сомнения, и медунки, конечно, слаще винограда, и шкерды достойнее абрикоса, который уже чуть ли не с мая месяца, лопаясь и распариваясь на солнце, валится на землю под ноги прохожим и под колёса «виллисов», наполняя воздух жирными ароматами. Это много, много позднее, и Ванюшин, и я, поймём свою природно-географическую обездоленность. Поймём, что не может быть наша Сибирь привлекательнее для жизни не только человеку, а и всякому зверю, птицам, и всякой растительности. Тут вот в любой лесной полоске рядом с дорогой уже дикого кабана встретишь, и не одного, а табунок, матку с поросятами, или фазаны начнут вылетать из травы. У нас же, в Сибири, полдня по тайге исходишь, сосны мачтовые кронами в небо втыкаются, а ни одной зверушки, ни одного рябчика не выпорхнет, а медведей, о которых легенды на Западе сочиняются, что они, дескать, по улицам городским табунами в Сибири ходят, если приходится кому-то видеть, то лишь одному человеку из тысячи – настолько они теперь редки в наших-то краях, медведи-то.
Уехал Чуря, мы проследили, как фары его автомобиля быстро загасают вдали. Оставил этот парень, родом из сибирского шахтёрского городка, в наших сердцах почему-то чувство вины. Да, да, вины. У всех. Я это видел по насупленным, каким-то смущённым лицам. Младший сержант курил и зачем-то перезаряжал свой трофейный пистолет.
В батальоне было известно, что Чуря ведёт воровской образ жизни, тот самый образ, какой он вёл на Родине до Томской колонии, откуда дерзко сбежал под пулями конвоиров три года назад, в оперативном штабе копились на него сведения от местных органов. Нам бы следовало его арестовать, мы же чекисты, но мы этого не сделали.
Через много лет, вспоминая эту последнюю встречу с знаменитым неуловимым Чурей, я буду думать о том, что он, Чуря (настоящая его фамилия Алексеев, Петя Алексеев) сыграл заметную историческую роль первопроходца русского успешного воровского бомонда на территории западных государств. Первопроходец. Те, которые пойдут следом, это будут уже не те, совсем не те, не того духа, не той отваги. В Чуре был врождённый жиган, плюс незаурядный ум. Думаю, Запад не столько потерял от встречи с ним, сколько выиграл. Будьте же благодарны господа капиталисты, загнившие в своих шмутьёвых сверхдостатках!
Расскажу дальше о приключениях в пути. Вот из дубового леска появился майор интендантской службы с группой автоматчиков. Они, примеряясь взглядом, вошли в середину стада и, размахивая оружием как палками, принялись оттеснять животных к оврагу. На мои возмущённые крики ни майор, ни автоматчики никак не среагировали. Подоспел задержавшийся позади на своей коляске, уже с новой попутчицей, кудрявой такой, Масенькин, он стал показывать майору документы, выданные ему в батальонном штабе. Майор не стал и глядеть в бумаги, он строго воззрился со своего высокого солидного роста на невзрачного Масенькина и скомандовал насмешливо: «Кру-угом!»
– У нас завтра годовщина части, – пояснил мне один из мародёрствующих автоматчиков. – Котлетки потребуются в столовке. Котлеток охота. – И укоризненно добавил: – Делиться надо. Жмот. А ты орёшь, тыловая крыса.
Нас, краснопогонников, я уже упоминал, во всех войсках презирают, тыловыми крысами обзывают.
Так наш добытый трофей убавился сразу на полдесятка скотин, ушедших прямиком на кухню.
А дальше стадо будет убывать чуть ли не на каждом переходе: то от разбитых на жёсткой дороге копыт, то от минных взрывов в придорожном перелеске, то от всяких набегов со стороны летних лагерей воинских частей.
В армии я обнаружил, что меня часто обвиняют в каких-то поступках, которых я не делал, а делали другие. А потом я понял, почему выходит так: я, оказывается, начинаю вдруг усиленно, независимо от своей воли, думать про эти самые чужие поступки, натурально смущаюсь, явно краснею и на меня тут же показывают: вот он, вот виновный! Очень портит кровь мне такая вот слабость натуры, должно быть врождённая.
Дальше встретились с танкистами. Точнее – с танками. Жаркий день завершался, близились сумерки, мы, изнеможенные, подбирали придорожный луг, где бы можно было остановиться на ночь, дав возможность скоту попастись, а самим себе вскипятить на костре чаю.
Каждый раз, когда мы выходили на нетоптаный луг, была опасность наткнуться на неразминированные участки. Благодаря случайности и Богу никто из бойцов пока не наступил на взрывающийся предмет, упрятанный в траве. Скотина вела себя в высшей степени нерационально: когда одна подрывалась, другие моментально задирали, вздыбливали хвосты, неслись в разные стороны, забивались в кусты, где как раз и подвергали себя наибольшей опасности. В кустах-то вообще никто мины не убирал. Особенно быки теряли разум. Настигать быка было мучительно сложно, а выгонять его из кустов ещё сложнее, бык норовил продраться дальше в саму чащобу, и тебе надо туда же продираться. У тебя при этом одна мысль и одно ожидание: вот сейчас под ногами рванёт, сейчас рванёт.