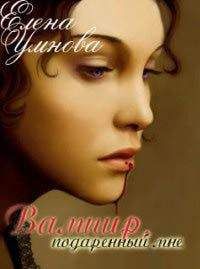Елена Катасонова - Пересечение
Она сидела на толстом стволе поваленной бурей липы и грелась на нещедром осеннем солнце.
— А ты не задирайся, — отвечала она на Бремовы вопли. — Не приставай. Пойди вон к Альме, видишь, она тебя ищет.
Альма любила неугомонного Брема. Своих щенков у нее давно не было, и этот напоминал ей что-то давно ушедшее, молодое. Она ложилась на бок и подставляла щенку косматую морду — Брем, если встать на задние лапы, вполне до нее доставал. Он стоял так, положив передние лапы на теплую шею Альмы, а она закрывала глаза и блаженствовала, ощущая эти прикосновения. Но Брема не хватало надолго. Скоро он снова лез в драку, тявкая отчаянно и тонко: он только недавно научился лаять. Он рвался в бой с главным соперником — Шуркой.
Шурка был однолеток Брема с судьбой довольно трагичной: его, еще слепого, беспомощного, топили в поганом ведре, бездонном и черном. Топил со знанием дела хозяин дачи, которую снимала на лето Нина Сергеевна, худенькая, слабая легкими женщина из восьмого подъезда. На человеческий крик Шуркиной матери — привязанная, она металась и кричала страшно — выскочил на крыльцо Гена, сын Нины Сергеевны. Он выхватил из ведра мокрый комочек, подскочил к хозяину, угрюмому, бородатому мужику с руками-лопатами, и наорал такое, что с дачи пришлось срочно съехать, потеряв отданные вперед деньги — мужик не вернул ни копейки.
— Ну и ладно, — храбро сказала Нина Сергеевна, — всего-то август остался, да, говорят, дожди идут, пусть подавится, мироед!
Денег было, конечно, жаль.
Но зато Шурка, подлец, был хорош! Глаза черные и блестящие и черным обведены, на умной рыжей мордочке такой же черный угольный нос, сам не пушист, но и не совсем гладок: на спине колечки, хвост венчиком и задирист.
Вечерами Гена выводит своего Шурика на прогулку, учит приносить палку ("Фас, Шурик, фас!"), брать след, прыгать через узенькие ложбинки. Гена учит старательно, но Шурка через канавы не прыгает, на палку вякает и ее грызет, след, игнорируя грозные приказы, не берет, хотя что-то нюхает и куда-то рвется. Гена вздыхает и, махнув рукой, садится на бревнышко, чтобы здесь, вдали от материнских глаз, всласть покурить. Нины Сергеевны он не боится, но знает, что мать нельзя расстраивать, и потому скрывает от нее драки, двойки, конфликты в школе и другие мелкие и крупные неприятности.
Предоставленный самому себе, Шурка пристает к собакам, валяется на холодной от осенних рос траве, встает на задние лапы, пытаясь разглядеть что-то вдали, и вдруг — одновременно — они с Бремом видят друг друга: Наташа идет на площадку и Брем бежит рядом с ней.
— Брем, не сметь!
— Шурка, фу!
Но Брем с Шуркой в восторге и бешенстве мчатся друг к другу. Смешиваются черная и рыжая шерсть — вопли, тявканье, неумелое, но грозное рычание… Хозяева разнимают, хватают, тянут щенков к себе, а те заливаются пронзительным молодым лаем, грозятся куснуть хозяйские руки, [скалят клыки — а клыки-то уже есть! — поднятые высоко в воздухе, извиваются и визжат.
— И чего вы не поделили?
— Ну что вам надо?
Никто не знает, никто. Ясно одно — Шурка и Брем враги навсегда. Бабушка с Гениной матерью первыми понимают это, полушутя-полусерьезно договариваются о "челночных" прогулках.
— Вы, Ниночка, гуляете в семь, перед работой? Тогда я буду в восемь…
В те редкие дни, когда случаются неувязки, Мария Тихоновна, завидя дальнозоркими глазами Нину Сергеевну, поднимает высоко руки, машет варежками, как моряк-сигнальщик: "Не подходите, не подходите…" Маленькая легкая Нина Сергеевна (даже не верится, что мать взрослого сына) тут же поворачивает в другую сторону. Но не дан бог Шурке первым увидеть Брема! Марии Тихоновне приходится тогда тяжело: надо хватать Брема и держать изо всех сил. Шурку выгуливают без поводка, и он быстро и молча летит на врага, прыгает высоко и точно, пытаясь допрыгнуть до Брема, зажатого в бабушкиных еще крепких руках.
Вечерами сложнее: Гене нравится Наташа, ему хочется ее видеть и с ней говорить, и потому, поглядывая в окно, он ждет, когда же она появится. Наташа выходит в синих джинсах и кедах, в хипповой, из мешковины, куртке — уже конец октября, — и Брем шагает с ней рядом, с удовольствием прислушиваясь к позвякиванию новой шлейки.
Гена мгновенно набрасывает на Шурку купленный на днях поводок и выходит следом, крепко зажав конец поводка в руке. Сутулясь от смущения, он приближается к великолепно-небрежной Наташе, хочет что-то сказать, но чертовы псы тут же кидаются друг на друга, поводки перекручиваются намертво, свирепое рычание оглашает окрестности. Наташа поднимает Брема высоко в воздух, Шурка прыгает, как кенгуру, и хватает Брема за хвост, Брем отбрыкивается задними лапами… Какая уж тут беседа!
Зима, весна, лето прошли незаметно: Брем рос, рос и рос и чувствовал только это — как он растет и меняется. Ко второй зиме он был уже не щенком, а юным и сильным псом. Тут-то и случилась история, которая сразу сделала его взрослым.
Однажды утром Мария Тихоновна, легонько потрепав Брема за уши, сказала:
— Ну, Брем, сейчас ты снова увидишь снег, да ты его небось и не помнишь.
Брем сразу насторожился: он и сам чувствовал — что-то случилось, неуловимое что-то произошло в природе. Всю ночь за окном тихо шептало и падало, только чуткий собачий слух мог уловить этот шепот. Сквозь сон Брем слушал и слушал, и уши его нервно вздрагивали.
Он дождался, пока оделась Мария Тихоновна, нетерпеливо натягивая поводок, вышел из парадной во двор, и в глаза ему ударило светом: сияло солнце, белым сверкала земля. Это белое жгло холодом лапы, оно манило, пугало, пахло свежестью, новизной. Брем прищурился, задышал, зафыркал, сунул в снег черный, пуговкой, нос и вдруг рванул поводок и ринулся вперед, на волю, туда, где расстилалось ковром это белое и блестящее.
Он ворвался на жгучий снежный ковер и полетел по нему, прижав уши, дрожа от неведомого доселе восторга. Зимнее солнце слепило глаза, ветер пронизывал мягкую шерсть, горели от снега лапы. Он знал, что ему попадет, но ничего не мог поделать с тем великим чувством свободы, которое затопило его, как огромное и блаженное ледяное море, потребовало от него рывка, бега.
Наказание было чудесным продолжением счастья. Когда, набегавшись, он стал нарочно вертеться вокруг хозяйки и она словила его, он получил такую снежную ванну, о которой и не мечтал.
— Вот я тебе покажу, как бегать, — посмеиваясь, проворчала Мария Тихоновна, подняла Брема высоко в воздух и бросила его с размаху в рыхлый молодой снег, собранный в кучу старательным дворником.
Визжа от восторга, Брем вылез, отряхиваясь, и залился возмущенным лаем: "Так нечестно, нечестно! Так с собаками не поступают!" Мария Тихоновна, как всегда, отлично его поняла:
— Да будет тебе, притвора, сам небось рад до смерти… Ну пошли, что-то я устала сегодня… Тяжелым ты стал, однако…
И они, довольные снегом, прогулкой, друг другом, отправились восвояси. Они медленно поднимались на свой невысокий третий этаж, и вдруг Мария Тихоновна остановилась и схватилась обеими руками за перила: "Погоди, Бремушка, передохнем…" Что-то в ее шепоте напугало Брема, и он, с тревогой на нее поглядывая, тихонечко заскулил. Мария Тихоновна смотрела прямо перед собой, лицо ее было белым и строгим, и тогда Брем заплакал громко и жалобно: не хотел он такого лица!
Открылась дверь, выглянул сосед по площадке: "Что с вами, Мария Тихоновна?" Выскочили еще какие-то люди, стало шумно и беспокойно: пахло незнакомы и странным, звенели ключи, хлопали двери, ходили женщины в белых, как этот первый снег, халатах, плескалась вода в стакане. Мария Тихоновна лежала смирно и отстранено, а Брем забился под диван, в самый дальний и темный угол, чтобы на всякий случай быть рядом.
Когда все ушли, он выбрался из-под дивана, поставил на постель передние лапы и заглянул хозяйке в лицо. И она, уже в полудреме после укола, приоткрыла глаза и ответила на его преданный взгляд: "Все в порядке, Брем, я буду спать…"
Она заснула спокойно, потому что возле нее был Брем, а он лег на коврик и стал ждать Наташу, прислушиваясь к дыханию Марии Тихоновны. Иногда он поднимался, ставил на постель мохнатые лапы, смотрел, как она спит, и тихо возвращался на место. В три часа он молча и быстро выбежал в коридор навстречу Наташе и так же молча и быстро повел ее к Марии Тихоновне…
Почти два месяца хозяйка пролежала в постели, и Брем нес бессменную вахту: дремал, когда спала она, смирно сидел в ногах, когда она читала, помахивал хвостом, повизгивал и ворчал, отвечая на всевозможные ее рассуждения, слушал вместе с ней радио, а по вечерам смотрел телевизор. Нельзя сказать, что все это ему нравилось, что он полюбил, например, телевизор, как некоторые другие собаки. Ничего подобного! Ему по-прежнему хотелось бегать по собачьей площадке, знакомиться, ссориться и мириться с другими псами, нюхать снег и чужие следы, а главное — драться с Шуркой, но Мария Тихоновна попала в беду, и он оставался с нею. Никто его этому не учил, никто ни к чему не призывал, откуда-то Брем сам знал это, он это почувствовал в тот страшный миг, когда хозяйка застыла на лестнице и он завыл и залаял, призывая на помощь.