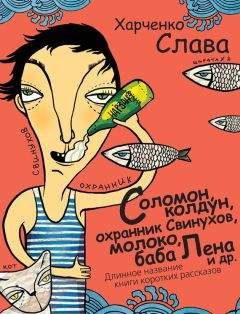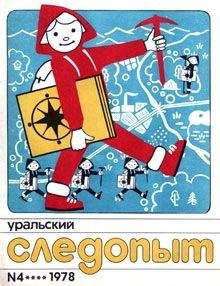Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 8 2005)
я, поденщик (или поденка), наизусть не помня молитвы, словно один из нас,
собираю рябину и терпкие райские яблочки в сквериках с городских
беззащитных деревьев, пока еще не стемнело. Который час?
Значит, близится вечер, следует выпить чаю с вишневым вареньем, прилечь
на диван не раздеваясь, и закурить, и смахнуть с ресниц
осеннюю паутину, продолжив листать учебник “Родная речь”
для говорящих бобров, бессловесной плотвы и невеликих, но певчих птиц.
Лариса Колесникова. Мемуары революционеров 1870-х годов об идейно-психологическом воздействии на них литературы. — “Вопросы истории”, 2005, № 5.
…И художественной, и научной, и общественно-политической, конечно.
“Советская историография неточно определила степень влияния романа Чернышевского „Что делать?”. По количественным показателям (109 описаний) он значительно отстает от показателей Некрасова и Тургенева. <…> Из произведений, популяризирующих Маркса, 89 человек отметили брошюру Степняка-Кравчинского „Сказка о Мудрице Наумовне” <…>”.
Александр Липков. Я к вам травою прорасту… Роман свидетельств. — “Континент”, 2005, № 1 (123).
Как я понимаю, перед нами сценарий документального фильма, переработанный и дополненный для публикации.
Воспоминаниями, письмами, статьями, дневниками и документами свидетельствуют 15 человек: от Колчака и Анны Тимиревой до Ленина и Бунина. Из дня сегодняшнего — 22 человека (именно эти беседы записаны во время съемок фильма) — от священника и монахини до скульптора, многочисленных художников и сотрудников Группы реабилитации ФСБ. Главные герои — гражданская жена Колчака и ее сын.
Повествование разбито на главы, одна из которых названа “Поленово”. Бывают странные сближения: сейчас я отправляю этот обзор в редакцию по электронной почте именно оттуда, из Музея-заповедника “Поленово”, где в конце 20-х в знаменитой “баньке” жили Анна Васильевна Тимирева и Одя (Владимир Тимирев). “…В Поленове была так называемая „Белая книга”, в которую люди, жившие здесь начиная с 1922 года по 1935-й, писали то, что им хотелось высказать. Анна Васильевна написала: „С глубокой благодарностью и любовью буду всегда вспоминать свое пребывание в Бёхове, давшее мне такой полный, душевный и физический отдых, явившись передышкой и светлым пятном в теперешней трудной жизни. А. Тимирёва”. Из этого маленького отрывочка видно, что попала она сюда после ареста и знала, что это наверняка арест не последний. И она, и многие другие пишут в книге о пребывании в Бёхове как о светлом пятне, как о передышке в чрезвычайно тяжелой, трудной жизни. Потому что там сохранилась удивительная, очень странная для тех лет аура. В этой книге я обнаруживаю и свою запись, сделанную, когда мне было двенадцать лет: „Где вы, все те люди, которые с такой теплотой вспоминают о Бёхове? Бог знает. Они рассеяны по земле и больше никогда не вернутся в Бёхово, и не будут больше ничего писать в этой книге, и Бёхово останется холодным и неприветливым. Детство, юность, счастье, грезы, все минует, все пройдет. Елочка Поленова. 30 марта 1940 года”. Для меня это место, да и не только для меня (вы видите, как писала о нем Анна Васильевна), было совершенно удивительное, а Одя, уж точно, пережил тут, может быть, лучшие годы своей короткой жизни” ( Елена Поленова, режиссер Поленовского театра, художник).
Памяти о. Александра Меня. Беседы в редакции. — “Континент”, 2005, № 1 (123).
По случаю семидесятилетия со дня рождения (январь 1935-го) и пятнадцати лет со дня трагической смерти (сентябрь 1990-го) здесь публикуется интервью Натальи Трауберг и “Кредо” отца Александра Меня (из писем к З. А. Маслениковой ).
“ — Сегодня приходится слышать, что отец Александр был не столько священником, сколько психотерапевтом. Это одно из серьезных обвинений, которое предъявляется отцу Александру. Церковная ли это община или „клуб по религиозным интересам”? — вот какова претензия к нему.
— Он не считал это духовным водительством. Он считал это психологической помощью. И свою миссию как пастыря он в этом видел тоже — и в высшей степени. И работал как психотерапевт школы Роджерса, хотя никакого Роджерса, может быть, и не знал. Это не единственное, что он делал, но это очень важно. Кстати, он никогда не скрывал (и говорил это кому попало — любому, кто хотел слышать), что многих своих прихожан к покаянию не ведет. Просто не ведет — и всё. И не собирается.
— Почему?
— Потому что они умрут. Потому что это убьет их, приведет к новому отчаянию. Отец Александр был деликатен и ничего не делал насильно. Очень многое зависело, конечно, от того, переменится человек или нет. И если в чем он и был повинен, так это в том, что слишком жалел людей. Но он был прав. Он очень много дал людям. Он дал им содержание жизни. Дал чем жить. И он очень хорошо понимал, когда и где бесполезна ортодоксия. И не навязывал ее.
— Правда ли, что как духовник он все попускал, все разрешал?
— Нет, это все легенды. Он не был никаким либералом, был очень суровым духовником — когда понимал, что этим человека не убьет. Если же видел, что убьет, он этого просто не делал. <…> Любил людей, которые шли к нему. А люди эти зачастую были очень эгоистичны. И у него хватало на это сил, Бог давал ему сил любить их и жалеть их. Чем они ему, как правило, не отвечали... Зато они его обожали, особенно женщины. Они и создали этот ужасный образ — священника, которому все поклоняются... Потом пройдет время, стремнина унесет все, что не надо, и непременно придет прозрачность” (Наталья Трауберг).
Александр Ревич. Лето в Голицине. Венок сонетов. Стихи. Цена жизни. Размышления поэта. — “Дружба народов”, 2005, № 5 <http://magazines.russ.ru/druzhba> .
Один из героев венка (не правда ли, эта форма стала совсем уж музейной редкостью?) — Арсений Тарковский.
Елена Ржевская. Домашний очаг. Как оно было. — “Дружба народов”, 2005, № 5.
Мемуарная, щемящая проза о перипетиях судьбы автора. Детство, война, возвращение с фронта. “Я явилась домой в гимнастерке, подпоясанной командирским ремнем, да с портупеей и бренча наградами, скрывшими растерянность, о которой некому было догадаться. И не было на белом свете никого, к кому я могла бы прильнуть. Кто защитил бы меня неизвестно от чего”. Здесь — Литинститут и ИФЛИ: Слуцкий, Кульчицкий, Коган. Походы в редакции и история первой публикации (особенно запоминается яркий мемуарный этюд об Л. К. Чуковской, работавшей недолго в “Новом мире” у Симонова, и страшные рассказы вдовы поэта Павла Васильева о своем аресте).
Верн Рутсала. Необъявленные олимпийские игры. Перевод Евгения Сливкина. — “Звезда”, Санкт-Петербург, 2005, № 5.
Одиннадцать игр. В их числе: “Шиллингошвыряние”, “Художественное придуривание”, “Сигаретозатягивание”... Более или менее устойчивое сидение на двух стульях, один из которых — социально-бытовая сатира, а другой — любовь к литературе абсурда. Автор шестнадцати поэтических книг происходит из семьи финского эмигранта-фермера и является профессором английской литературы в одном из американских колледжей (штат Орегон). Этот номер “Звезды” посвящен американской культуре.
Лариса Сапоговская. Золотые ресурсы СССР в военно-экономическом противостоянии 1939 — 1945 годов (постановка проблемы). — “Вопросы истории”, 2005, № 5.
“По свидетельствам А. И. Микояна, Сталин „фетишизировал” золото и стремился ограничить его отток из СССР, всякий раз было трудно добиться его согласия на отпуск валютного металла, даже на закупку стратегического сырья. <…> Сталин монополизировал и информацию о золоте, и право распоряжаться им”.
Золото добывалось промышленно и “лагерным” путем, через Дальстрой. Дешево (Колыма) и сердито (“СССР был одной из немногих стран, не прекративших своей золотодобычи в годы Второй мировой войны”). А союзники (США), подписав договор о ленд-лизе, от сырья нашего стратегического, сиречь руды, отказались: только золото. Оказывается, в годы войны американцы дважды обследовали наш золотой потенциал. В 1942 году на закрытые золотые объекты Колымы съездил госсекретарь Ачесон, а в 1944-м магаданские прииски проинспектировал и вице-президент Уоллес. Показывали и рассказывали им далеко не всё (мы были единственным союзником, который не “отчитывался” о запасах). Но высокопоставленных племянников Дяди Сэма все же у себя принимали. На территориях наших концлагерей.