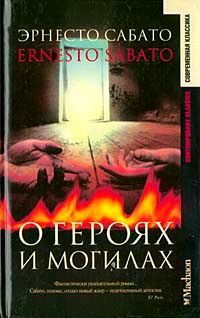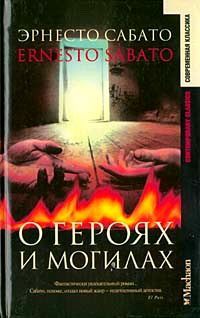Эрнесто Сабато - Аваддон-Губитель
У этой руины человека наступил момент просветления, отец узнал Бруно, грустно ему улыбнулся, как будто хотел что-то сказать. Бруно приблизил ухо к его рту, однако ничего не мог понять, хотя отец показывал на свое тело, на остатки своего тела.
На какое-то мгновенье между ними установилась связь, и во взгляде отца, теперь более спокойном, Бруно как будто уловил недоверчивую усмешку, смесь удовлетворенности и иронии. Отец опять попытался что-то сказать. Бруно наклонился к нему. Хуанчо, пробормотал он. Потом, видимо, чуть вздремнул или задумался. И вскоре что-то прошамкал. Что, что? Участок? Какой участок? Отец, видимо, начинал сердиться — он весь напрягся, произносил бессвязные слова, которые чужой ни за что бы не понял. Однако Бруно сумел их расположить в должном порядке, как человек, знающий некий древний язык, расшифровывает текст, складывая неразборчивые фрагменты, — отец желал, чтобы в полагавшейся Бруно доле был участок земли. Его вечная идея: земля привязывает к себе.
На обещание блудного сына он ответил подобием улыбки. Потом позвал Хуанчо — он хочет пить, надо его повернуть. Бруно неуклюже попытался это сделать сам, но отец отрицательно покачал головой. Пришлось разбудить Хуанчо, вдвоем они повернули старика, дали воды в ложечке. Впервые в жизни Бруно почувствовал, что по-настоящему приносит пользу, куда острее почувствовал себя братом Хуанчо и с некой смиренной нежностью понял, что он, познавший столько стран и учений, прочитавший множество книг о страдании и смерти, уступает брату, который ничем этим никогда не занимался.
Старик опять сделал какой-то знак. Хуанчо наклонился к его рту и утвердительно кивнул. После чего отец, по-видимому, уснул спокойно. Бруно посмотрел на брата.
— Схожу-ка я на поле, — сказал Хуанчо.
С чего это вдруг? Это его развлечение. Бруно не знает? Теперь пришла пора разметить землю. Только и всего.
Бруно увидел, что брат направляется на задний двор. Он что же, не ляжет спать? Куда он идет?
Бруно с изумлением смотрел на брата.
— Я же тебе сказал, надо разметить землю.
Но ведь он никогда этого своего участка не увидит, ведь усадьба и все прочее для него перестанет существовать навсегда.
— Он уснул спокойно, потому что я ему это пообещал.
Бруно молчал, только смотрел на брата во все глаза: бедняга изнемог от немыслимого напряжения в течение многих дней и ночей, постарел.
— Да ты поручи какому-нибудь пеону.
— Не могу, он никогда никому не разрешал это делать.
Едва брат вышел, Бруно сел в его кресло. Он чувствовал себя ничтожеством, виновным в том, что испытывал отвращение, корил себя за то, что, пытаясь забыть про страдания отца, уходил бродить по улицам, чтобы отвлечься, за то, что думал бог весть о чем, читал в эти дни газеты, книгу. Все это — легкомыслие, даже его раздумья о столь важных вещах, как судьба и смерть, когда об этом думаешь в общем, абстрактно, а не об этой страдающей плоти, рядом с этой плотью, ради этой плоти.
Когда брат вернулся, Бруно уступил ему кресло. Они сидели молча, слушая стоны, невнятицу бреда. Бруно смотрел на брата со спины — мощные ссутулившиеся плечи, седая шевелюра, склонившаяся от усталости голова. На миг он испытал искушение протянуть руку и положить ее на плечи Хуанчо, на эти плечи, носившие его, когда он был ребенком, но тут же спохватился, что никогда на это не решится.
— Ладно, пойду опять на участок. Подежурь ты.
И Бруно, сев в его кресло, ощутил гордость, подобную той, какую должен ощущать часовой, сменяющий товарища на опасном посту. Но когда это чувство оформилось в словесный образ, ему стало стыдно.
Темнело. Время от времени заглядывали старшие братья. Хуанчо в конце концов все же лег, чтобы еще немного поспать. И так Бруно в первый раз в жизни провел целую ночь рядом с ложем умирающего. И он понял, что только теперь становится мужчиной, ибо только смерть по-настоящему готовит к жизни, — да, смерть одного-единственного существа, связанного с тобой сердечными узами, помогает понять жизнь и смерть других существ, даже самых далеких людей и самых ничтожных тварей. Он поил отца водой, сумел даже сделать инъекцию морфия.
Отец говорил на венецианском диалекте — возможно, о чем-то из своего детства, потому что называл имена, которые Бруно никогда прежде не слышал. Говорил что-то о руле, что-то непонятное. Временами на его лице появлялось скорбное выражение. Или вдруг он начинал бороться с врагами, ворочался на своем ложе. Потом стал что-то напевать, и лицо его осветила радость — приблизив ухо к его рту, Бруно расслышал искаженные слова песни «Le campane de San Giusto»[338], песни триестинских ирредентистов[339], которую отец пел ему, когда он был маленьким.
Через два дня началась агония.
Бруно был шокирован вежливым равнодушием, автоматическими жестами священника, совершавшего соборование и читавшего молитвы. И все же он почувствовал торжественность обряда помазания — да, его отец прощался с жизнью навеки, с жизнью, которую он прожил с таким мужеством и упорством.
Перед эстампом Святого Марка зажгли две свечи. Хуанчо надел отцу на шею медаль с изображением венецианского святого. И с этого момента старик чудесным образом успокоился и тихо скончался.
Он пошел по улице Альмиранте-Браун,
но, дойдя до пересечения с улицей Пинсон, увидел, что старое кафе Чичина преобразилось, — мраморные столешницы заменили пластиковыми. Он сел за столик с опаской, как чужеродное привидение, явившееся в не положенное ему место после двадцатилетнего отсутствия. Многие из тех, кто когда-то спорил о футболе, наверняка умерли, парни, потешавшиеся над Барраганом, стали мужчинами, женились, завели детей. А сам-то Чичин, где он? Официант, подошедший к нему, был новый, Чичина не знал. То ли болеет у себя дома, то ли помер. А кто теперь хозяин? Зовут его Моуренте, вон тот испанец, что сидит за кассой. Над большим зеркалом уже не висела фотография футболистов Боки. Не было уже ни Гарделя, ни Легисамо.
Человек из другой эпохи
Взгляд его остановился на необычайно худом старике. Седые волосы, орлиный, очень тонкий нос, небольшие глазки на узком лице придавали ему сходство с птицей, с испуганной, что-то потерявшей птицей. Чересчур длинная шея с острым кадыком. В углу рта, вроде погасшей сигареты, у него торчала зубочистка, которую он то и дело двигал туда-сюда. Он смотрел на улицу, словно чего-то ожидая, словно сидел за столиком в привокзальном кафе и с минуты на минуту должен был появиться кто-то страстно ожидаемый. Это неуемное беспокойство отражалось в его лице, но опущенные уголки рта показывали, что это ожидание почти наверняка было тщетным. Никаких сомнений, этот человек — Умберто X. Д'Арканхело, известный в свое время под именем Тито. Не хватало только скрученной газетки «Критика» под мышкой. И не хватало Чичина, вытирающего стаканы и рассказывающего, по его просьбе, о формировании команды «Бока Юниорс» в 1915 году.
Кто-то за соседним столиком громко спросил:
— А вы, дон Умберто, что думаете?
— О чем? — неохотно отозвался Д'Арканхело.
— О том, что сказал Армандо по телевидению.
Дон Умберто слегка повернул свою заостренную голову.
— О чем? Об Армандо?
Да, вот именно, о заявлении Альберто X. Армандо.
Он с минуту смотрел на людей за соседним столиком, и все молчали, как перед неумолимым, но справедливым судьей. Тито, однако, ничего не ответил. Он снова обернулся к улице Пинсон и погрузился в свой уединенный мир, меж тем как один из тех, кто добивался его вердикта (хромой Акунья? Лояконо?), торжествующе приговаривал: «Вот видишь? Вот видишь?» О чем он думал? Да, без сомнения, старик умер. Бруно видел (воображал) его сидящим у дверей дома на соломенном креслице, с узловатой палкой, в потертом зеленоватом котелке, бормочущего: «Вот так-то», покачивая головой, как бы подтверждая своей слегка ностальгической миной слова невидимого собеседника. «Да, так все и было». Что — все? А все одно и то же: море, на которое он смотрел с вершины горы, держа в руке флейту, Рождественские праздники со снегом, пастухи, играющие на волынке. Бруно вспомнил Тито, потягивающего рядом с ним мате, иронически и ласково спрашивающего, что именно пели пастухи. И старик сам, закрыв глаза, с робкой застенчивой улыбкой напевал:
La notte de Natale
e una festa principale
que nasció nostro Signore
a una povera mangiatura[340].
Вот это они пели, именно так… А много снега было? Да, да… снег… И он сидел, размышляя о сказочном крае, а Тито, подмигивая одним глазом Мартину, улыбался с оттенком грусти, затушеванной стыдливостью и меланхоличной иронией.
— Вот видишь, малыш? Вечно одно и то же. Ни о чем другом старик не думает. Только о своей деревне. Эх, будь у меня деньжата…