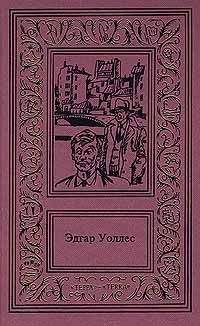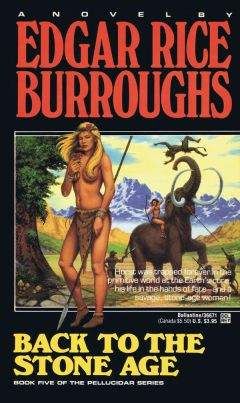Антонио Муньос Молина - Польский всадник
Потом они лежали неподвижно: он все еще был на ней, в ней, не желая разъединяться, обессиленный и спокойный, неохотно возвращаясь к реальности, как человек, который проснулся и видит стены, занавески и свет в окне, но не может отказать себе в удовольствии еще на несколько минут погрузиться в забытье. Он мягко и медленно углублялся в нее, льстя ей неистощимостью желания – успокоенного, но не уничтоженного удовлетворением, превратившегося теперь в благодарность и нежность, продолжавшегося в мимолетных судорогах, до сих пор сотрясавших их так глубоко, словно они не были разделены преградой кожи. Мануэль еще раз произнес ее настоящее имя – Надя, – и ему показалось, что только теперь он действительно обнимал ее и видел ее лицо, без отпечатка страха и страдания, обновленное или помолодевшее от физического ощущения счастья, с улыбкой удовлетворенности и довольства, которую он видел сейчас тоже в первый раз: она едва изгибала ее губы, угадывалась в уголках рта и прикрытых ресницами глазах, как улыбка спящего человека. Мануэль старался не двигаться, поднимаясь и опускаясь от ее дыхания с неподвижностью пловца, лежащего в спокойном море, и гладил ее бедра с осторожной нежностью: малейшее движение – и он вышел бы из нее.
– Ты моя пленница, – сказал он, прижав ее запястья к подушке, а Надя сжала ноги и обвила их вокруг него.
– Это ты мой пленник, и я не отпущу тебя, на этот раз ты не сбежишь.
Все было так просто, словно они всегда были знакомы и не существовало других мужчин и женщин, ночей одиночества и ужаса, знакомых лиц, становящихся враждебными и чужими, часов отвращения, безмолвных мук и желания покончить с этим как можно скорее и заснуть, умереть, едва закрыв глаза. «Именно здесь, – думает Надя, все еще не осмеливаясь сказать это вслух, – в этой постели и этой самой комнате, мы столько раз мучились, упорствуя в невозможном, раздавленные годами неудовлетворенности, и вдруг оказывается, что незнакомец знает меня лучше, чем кто бы то ни было, знает, как и где касаться меня, и в какой момент, и какие слова возбуждают меня, когда он шепчет их мне на ухо. Он будто находится внутри меня и узнает мои желания в то мгновение, когда они возникают, даже немного раньше, когда я еще не осмеливаюсь об этом подумать». Надя увидела, как Мануэль приподнялся, встав на колени над ней, взяла его лицо в ладони, чтобы он не уходил, пригладила волосы, угадывая в его глазах удивление и уверенность, ликующую гордость и нетерпеливое желание знать. Он повернулся к ней спиной и показался более беспомощным и высоким, чем сам себя считал: «Нет, это не так, – думала она, – он сильный, но не знает этого». Она слышала, как он помочился в туалете, открыл кран, чтобы умыться, и на несколько секунд ее встревожила тишина. Не было слышно шагов его больших босых ног по ковровому покрытию, он искал сигареты в столовой, и, поскольку пять ее чувств обострились до предела, Надя ощутила запах табачного дыма еще до того, как Мануэль снова появился на пороге спальни и подошел, протянув ей зажженную сигарету. Он смотрел на нее, выпуская дым изо рта, при слабом свете лампы, с внимательным и трогательным обожанием. Она лежала с рассыпавшимися по подушке волосами, положив руки под голову и раздвинув ноги: одна нога свешивалась с кровати, а под тенью волос внизу живота были видны красные и набухшие, как края раны, губы. Мануэль дал ей сигарету: он был так аккуратен, что даже позаботился принести пепельницу. Однако он не сел рядом с ней, а лег на кровать, слегка раздвинул ей ноги, погладив щиколотки и пальцы, поцеловал колени и нежную внутреннюю часть бедер и стал медленно подниматься вверх, оставляя на коже след слюны. Мануэль неторопливо и тщательно убрал волосы и стал целовать ее так же, как целовал бы рот, погружая в нее язык, проводя им круговыми движениями вверх и вниз. Он дышал носом, отстранялся, чтобы передохнуть или снять с губ волосок, и смотрел на нее, улыбаясь, с восторженным мокрым лицом, видел, как она курит, прикрывая глаза, проникал в нее, вдыхал ее запах. Ее розовая кожа расширялась и сжималась, как сердце. Надя закрыла глаза, тоже задышала открытым ртом и выронила сигарету из пальцев. В то время как его руки поднимались вверх и сжимали ее груди, она гладила его растрепанные волосы, лоб, дрожащие крылья носа, искала его язык и губы и почти не могла отличить их от своего тела и влажных волос, куда они погружались со все ускоряющимся ритмом. Она раскрылась еще сильнее, до боли в суставах, забыв о стыдливости, не зная, кому из них двоих принадлежат эти губы, дыхание и слова, опьянение, увлекавшее их и заставлявшее прижиматься друг к другу, будто для того, чтобы не потерять опору в безумии, пот, соки и запахи, объединявшие их в общем страстном изнеможении.
* *Когда они снова поцеловались, то обнаружили свой собственный незнакомый вкус во рту другого. Они почти не осмеливались глядеть друг другу в глаза и обращались с внимательной супружеской нежностью, будто каждый их жест таил в себе совместный опыт многих лет: манера сгибать пополам подушку, отодвигаться, чтобы другой устроился рядом, раздвигать колени, чтобы сжать ими ногу, натягивать одеяло до плеч, искать на ощупь руку и класть ее себе на талию. Уткнувшись в ее шею и касаясь губами затылка в завитках, Мануэль украдкой оглядывал комнату, которую до сих пор еще не успел рассмотреть: белые стены без картин, задернутые занавески, ночной столик с цифровым будильником, показывавшим четыре часа тридцать девять минут. Он подумал, что это же время показывают сейчас все часы аэропорта Кеннеди, словно прощаясь и поторапливая. Как будто часть его не встретила Надю, Мануэль видел, как едет в такси под серым небом и снегом по промышленным территориям и грязным кварталам Куинса, с тревогой глядя на часы и различая вдалеке первые отдельные здания аэропорта. Он представлял, как подходит с чемоданом и сумкой к стойке «Иберии», почти пустой, так же как коридоры и эскалаторы, потому что, возможно, скоро начнется война и лишь немногие сумасшедшие решаются лететь самолетом. Но он уже не собирался использовать этот билет, не торопился и не боялся опоздать, окутанный плотной и спокойной усталостью, без примеси горечи, как в те времена, когда ему не требовалось снотворное, чтобы заснуть. Он лежал голый под легким и горячим стеганым одеялом, обнимая едва знакомую женщину, в неведомом доме, где почувствовал, с самого своего появления меньше двух часов назад, атмосферу неустойчивости, делавшую его более родным, так же как и ее, Надю – больше принадлежавшую ему и более незнакомую и удивительную, чем любая другая женщина, с которыми он был прежде, знавшую то, чего он никому не рассказывал и о чем даже не вспоминал. Он слышал непрерывный и далекий шум машин на проспектах и не ощущал, что находится в Нью-Йорке – в том же городе, где бродил всего несколько часов назад, не раз останавливаясь на углу Лексингтон и 51-й улицы, в нескольких шагах от этого места, казавшегося тогда таким же далеким, как Южный полюс, как туманный берег озера Мичиган и застеленные коврами коридоры гостиницы «Хоумстед».
– Я не знаю, ни где нахожусь, ни кто ты, я не знаю даже, кто я сам, сколько сейчас времени, день теперь или ночь и что будет со мной завтра, но мне все равно, я не хочу ничего знать, хочу обнимать тебя и ждать, покаты заговоришь со мной, хочу закрывать глаза и засыпать без надежды и тревоги, а проснувшись, убеждаться, что все это мне не приснилось. Я никогда еще не чувствовал себя так далеко от всего, как сейчас, никогда так не наслаждался покоем, как в этот самый момент, в центре своей жизни, посреди одиночества и пустоты, на острове, где мечтал затеряться в четырнадцать лет. В Махине сейчас одиннадцать часов вечера, бабушка с дедушкой дремлют на софе, а отец уже два часа как спит, потому что завтра суббота и ему нужно встать в четыре. Мать вяжет и смотрит фильм по телевизору или, надев очки, пытается читать книгу – медленно и вполголоса, будто произнося молитвы.
Надя чувствует его ровное дыхание на своем затылке и осторожно поднимается, чтобы не разбудить. Она садится на кровати, заправив волосы за уши, смотрит на спящего Мануэля и прикрывает ему плечи. Надевает халат из набивного шелка и идет босиком на кухню, чтобы выпить стакан воды. Во внутреннем дворе по-прежнему падает снег, установивший в сияющем вечере тишину, уничтожающую город так же, как низкие тучи скрывают вершины небоскребов, даль Ист-Ривер и проспектов. Надя улыбается себе в зеркале ванной, разглядывает без неудовольствия бледное лицо, утомленное любовью, смачивает полотенце, чтобы стереть с подбородка след помады и спермы. Халат распахнулся, и белые груди качаются, пока она чистит зубы. Она красит губы и морщит их, будто дразня свое отражение, а потом подправляет указательным пальцем красную линию помады. Надя возвращается в спальню, ей хочется тихонько лечь рядом с Мануэлем, но она боится разбудить его. Он спит, обняв подушку и сжавшись: она еще никогда не видела, чтобы кто-нибудь так спал. Он наслаждается сном, и на его лице написано блаженство, делающее его намного моложе. Надя садится рядом с Мануэлем на край кровати, чувствует его горячее дыхание и запах спящего тела, но не решается поцеловать его. Ее умиляют его большие ботинки, стоящие на полу, две пары шерстяных носков, кальсоны, которые он снял с таким стыдом. Мануэль что-то говорит во сне, невнятно произносит несколько слов по-испански, Наде так нравится смотреть на него, что ее собственная нежность начинает ее беспокоить. Но она чувствовала то же самое и в первую ночь в Мадриде, когда они шли к лифту и она с тревогой думала, что, возможно, он не решится пригласить ее, и когда вошла в номер и сняла сапоги, сидя на кровати и зная, что все уже неотвратимо. Надя так желала его, что готова была встретить, беззащитная, чудо или разочарование, возможную жестокость судьбы: она собиралась лечь в постель с незнакомцем и отчаянно заглушала не только страх и недоверие, но и глухие предупреждения опыта и страдания. Ее взгляд останавливается на все еще закрытом сундуке и картонном цилиндре, и она вспоминает подвал в доме престарелых и неприветливую служащую в форме, заставившую ее подписать квитанцию после похорон, всего два дня назад, уже поздно вечером, когда она вернулась с кладбища и начинался снег. Надя подумала об отце, только что погребенном под мокрой темной землей, и испытала чувство вины за то, что оставляет его. Это была первая ночь, которую он должен был провести в смерти.