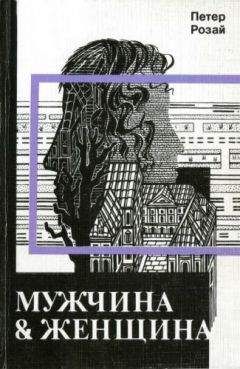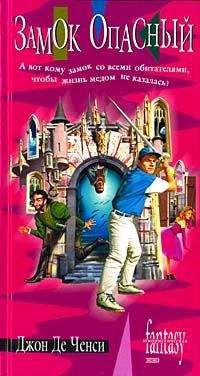Петер Розай - Очерки поэзии будущего
Поток жизни стремится — через случайности эволюции, через учебу — ибо учится всё! — подняться на более высокий уровень; точнее: на другой уровень.
В жизни художника, применительно к его творческому пути, это означает непрерывную смену расчетов, художественных представлений; постоянную и неизбежную «правку», совершенствование.
Отсюда следует, что одно искусство может быть «лучше» другого. Но это не так: Один расчет дает одно, другой — другое. Оценке поддается лишь то, насколько осуществлен замысел, насколько воплощение соответствует плану. И существует еще связь между отдельными расчетами, связь по большей части генетически-органическая, то есть одно восходит к другому и вырастает из него.
Как говорится: искусство порождает искусство.
Но встречаются и парадоксальные решения, т. е. верх может одержать противоположное, причем без всяких разумных на то оснований.
Это относится, кстати сказать, и к смене культур. Смысл — это только гребешки пены на темных водах бессмыслицы.
Образом для этого вновь является играющий ребенок, который бросает камни в сторону небольшого углубления в земном шаре, — и замечает, что один камень ложится ближе, другой дальше; так родилась игра: одна из игр.
Роль случая и произвола в художественном творчестве неоспорима, нравится нам это или нет.
Игровой характер носит все, что мы предпринимаем, вся человеческая деятельность; многие обманывают себя, не желая этого сознавать.
От этого всякая власть становится еще могущественнее.
Мне совершенно ясно, что тогда, двадцать пять лет назад, у меня была иллюзия, будто бы все, что я вижу, чувствую и думаю, должно быть сводимо к символическим образам; они, эти символы, резко выделяются на диффузном фоне жизни. На фоне хаоса, который шевелится на заднем плане. И так вот — изобретая параболы — можно понять жизнь, думалось мне, и тем самым ее обуздать; а значит, отвоевать хотя бы чуточку покоя. Подлое желание?
Что касается воли к форме, как она свойственна искусству, то я подозреваю, что художник, когда он создает форму, воплощает мечту человечества о мире, об окончательной и наконец безмятежной уверенности в бытии.
ADHOC к части IV:
1. Дополнение к adhoc части III:
a) Не подлежит сомнению, что мы можем подходить к произведению искусства и, приступая к работе, спросить себя, какова актуальная потребность, на что имеется спрос. Это напоминает о художественных произведениях прошлого, создававшихся на заказ; или об Энди Уорхоле.
Ценность художественного произведения несомненно определяется многообразием возможностей его использования, богатством возможных ответов, потенциально в нем заложенных.
Кто льет воду на мельницу художника, не имеет значения.
b) Рынок, каков он сегодня, требует товаров высоко стандартизированных, заставляющих покупателя думать, что он собирался купить именно это и ничто другое.
В мире товарно-денежного производства огромную роль играет товарная марка — в таком мире и художнику надлежит поставлять на рынок товар, отмеченный его маркой; такой товар, который видишь, и, видя, узнаешь и знаешь, кто его произвел.
Какой же должна быть стратегия того, кто желает мыслить? — Рынок никогда меня не заботил.
c) Рынок регулирует многое, но не все, например, любовь к истине ему не подвластна, это знает каждый ребенок.
2. Мы производим абстракцию уже потому, что выводим отдельный факт из потока событий.
Перед лицом бесчисленных возможностей (мира) искусство всегда избирает тот инструмент, который нужен в данный момент — для творчества формы: за сложнейшей конструкцией может следовать самое наивное описание.
Во всяком случае я не верю, что скоро наступят времена, когда творческий процесс сможет воспроизвести машина. Думаю, напротив, что произведение искусства, в особенности искусства словесного, могло бы очень многому научить создателей умных машин.
3. «Высшее понимание в том, что все фактическое есть уже теория» (Гете) — или, как писал я когда-то, «что созерцание есть уже мышление».
V
Проекты (Проект безлюдного мира/Проект бесцельного путешествия) были для меня опытом растворения и разрушения параболической формы путем ее оптимизации. Взяв простую структуру, я вложил в нее заряд такой мощности, что — если продолжить энергетическое сравнение — она, эта структура, начала испускать лучи, и создалось — как своего рода побочный продукт — впечатление некой длительности, пронизанной диффузными силами.
Тогда я очень близко подобрался к «миру», достиг своей эстетической цели: с помощью формы я усмирил хаос, не потеряв при этом ни одного известного и осознанного мною факта. Я вступил в схватку и был вынужден одержать верх. Это предательски выдают слова, которыми заканчивается первый из моих текстов: «Как же долго пришлось мне идти, говорим мы себе, так вот, значит, какая она, эта Земля обетованная. — К чему относится это последнее утверждение, остается невыясненным, может быть, мы говорим так только для того, чтобы не впасть в последнюю немоту, в немое отчаяние».
Тогда я впервые начал понимать, что мир не меняется от того, что кто-то из нас думает, будто бы теперь-то он наконец знает, как все устроено.
Некоторые утверждают, что когда они пишут, это помогает им преодолеть страх, заглушить его, забыться — что-то в этом роде.
На это следовало бы ответить: Любое сильное средство, которое мы применяем против страха, ведет к еще большему страху: правда, теперь это страх другого рода. Как говорится, страх — плохой советчик, и это верно.
«Нет сомнения, мой интеллект не слишком велик: во всяком случае, производство идей — не моя сильная сторона, — пишет Френсис Понж в своем эссе Мой творческий метод: — Наилучшим образом обоснованные взгляды, самые гармоничные (лучше всего выстроенные) философские системы всегда представлялись мне особенно уязвимыми, вызывали у меня известное внутреннее сопротивление, ощущение непрочности, неопределенное и неуютное. Когда во время дискуссии я что-то высказываю, у меня нет ни малейшей уверенности, что это действительно так. Противоположные суждения, с помощью которых меня оспаривают, кажутся мне не менее правильными, точнее: не более и не менее правильными. Меня легко убедить, легко преодолеть мое сопротивление. И когда я говорю, что меня убедили, то это значит, если не в истинности того, что было высказано, то в уязвимости моих собственных взглядов. К тому же ценность идей, в большинстве случаев, обратно пропорциональна той пылкости, с которой они излагаются. Тон убежденности (и даже искренности) служит, по моему мнению, едва ли не чаще всего для того, чтобы убедить самого себя, а не своего собеседника, и, может быть, еще в большей степени для того, чтобы замещать убеждения. В известном смысле именно для замещения отсутствующей истины. Это я чувствую очень ясно».
Подобного рода тихий анархизм вызывает у меня большую симпатию. Вообще говоря, возвращаясь ко всему тому, что уже было мною высказано, я чувствую, что слишком акцентировал элемент расчета.
В действительности отношение здесь диалектическое — между расчетом, применением его и, с другой стороны, непрерывной корректировкой, или, лучше сказать: веселым, то планомерным, то яростным разрушением всяких расчетов.
Художником в наибольшей степени бываешь тогда, когда не знаешь, что делаешь. — Это положение наилучшим образом согласуется для меня с требованием абсолютного самообладания: ибо я ведь обязан — так или иначе — но за все, что я делаю — быть в ответе.
Итоговый счет называется форма.
В предыдущем изложении меня смущает, пожалуй, только то обстоятельство, что все выглядит так правильно, стройно, почти добропорядочно.
Потому что искусство не может быть добропорядочным; как только установлен порядок, в него всегда врезается молния и все разрушает.
Искусство — это даже нельзя назвать дискурсом.
Даже если я хочу или хотел бы выстроить дискурс: то, что в моих вещах является искусством, это и есть как раз то, что взрывает дискурс. Или же скажем так: То, что мне интересно в искусстве, не есть дискурс.
Ненавижу сектантов. Почему? Потому что они устанавливают правила, которых необходимо придерживаться.
Плевать мне на правила, я ведь знаю, что самое важное в том, чтобы их нарушать.
Вот почему мне так нужны правила: чтобы нарушать их. Причем, когда я говорю о правилах, я имею в виду не правила, установленные кем-то другим, а мои собственные расчеты.
Если уж пошел такой резкий тон: Есть известные типы, которые кажутся мне смешными именно потому, что они верят, будто бы искусству можно предписать готовые решения. Как если бы каждый из нас не должен был находить только свои собственные!