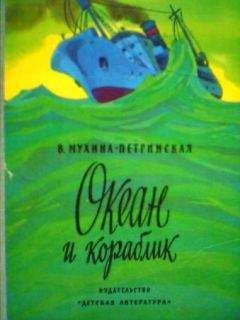Валентина Мухина-Петринская - Путешествие вокруг вулкана
— Этот Харитон не такой уж плохой парень, мы с ним не раз ездили на рыбалку, — с досадой сказал Марк. — Жалко и его. Что с ним будет?
— Он убежал?
— Да.
— Он знает, что его мать разбил паралич?
— Что? Он мне ничего об этом не сказал.
— Милиционер говорил. Когда кончится операция, я схожу к ней.
— Неприятная женщина!
— Да. Но я должна к ней сходить. Возможно, придется дать телеграмму другому ее сыну… Нельзя же бросить…
— Вы знаете Василия?
— Да.
Кажется, я покраснела — ни к селу ни к городу. Марк отвел глаза и нахмурился.
— Он хороший человек?
— Не очень.
— Ах, вот что! Теперь я начинаю понимать. Вы сказали о Харитоне не как посторонняя… хотя только что приехали и не могли его знать. Вы что… любите его брата? Простите.
— Нет, нет. Любила прежде.
— Гм. Не смею спрашивать.
А спросить ему явно хотелось. Все равно весь институт знал. И я вдруг рассказала ему — незнакомому человеку — всю историю моей неудавшейся любви. Поплакала в жилетку!
— Да, такое глубокое чувство может либо обогатить, либо опустошить — зависит от самого человека, — заметил Марк. — Как же вы перед ним устояли — такая малышка?
— Ох, я бы не устояла, если б он тогда добивался меня открыто и честно: вот она — я ее люблю! А он трусил и колебался.
— И вы не можете забыть… теперь, когда он овдовел?
— Я его не уважаю! Я рассказывала вам о прошлом.
— Вот оно что!
На меня вдруг напал «болтун», как выразилась бы мама, и я говорила, говорила без конца. Будто год перед тем молчала. Пожалуй, так оно и было. Наверное, Марк тогда подумал: «Ну же и болтуха!» Я рассказала ему о Михаиле Герасимовиче, о папе, маме, Родьке, его невесте. Рассказала, как мама ходила к наркому. Лицо Марка вдруг окаменело, потемнели зеленоватые глаза.
— Какая хорошая женщина ваша мама! Это, действительно, уникальный случай. Как бы я любил и уважал такую вот мать. Гордился ею…
Я вдруг подумала: вот все рассказала я ему о себе. А о нем ничего не знаю — незнакомец!
Марк словно прочитал мои мысли.
— Я редко рассказываю о себе… Никогда о матери… Но вам коротко скажу. Когда арестовали моего отца, мне было двенадцать лет. В пятом классе учился. Я безумно любил отца, как люблю и теперь! Когда за ним пришли — я это хорошо помню, — на меня словно умопомешательство нашло. Ни уговоры отца, ни окрик матери, ни угрозы тех, кто за ним пришел. Я… дрался! Пришлось запереть меня в ванной комнате. Отцу не разрешили со мной проститься. Так и увели. Мать моя… она директор одного научно-исследовательского института в Москве. Ну да, я тоже из Москвы! Она отреклась от мужа. Не носила ему передачи, не писала писем. От омерзения и злобы я превратился в зверёныша. Я ходил по знакомым и просил взаймы денег на передачу отцу. Когда буду работать — отдам! Давали. А один из папиных друзей ходил со мной в тюрьму… два раза в месяц… когда на букву «л»… Когда отца увезли, я с ним переписывался. У него было право переписки. От матери я ушел. Я просил директора школы устроить меня в детдом или на работу. Никакие уговоры не помогли. Домой я не вернулся. Пришлось определить меня в интернат. Как только я получил паспорт, я бросил школу и уехал на Север. Поселился неподалеку от отца. Нашел работу по душе!
Марк вдруг рассмеялся.
— На этой самой лесной авиабазе. В шестнадцать лет не допускают к парашюту, но для меня сделали исключение. Сначала, конечно, отказывали, но я не уходил с аэродрома. Таскал со склада ящики со взрывчаткой, ранцы, мотыги, лопаты, топоры. Помогал снаряжать самолеты. Меня полюбили. Инструктор парашютно-пожарной службы взял надо мной шефство. Даже жить пригласил к себе. Поместил в одной комнате с сыном.
С тех пор я работаю в лесной авиации. Окончил среднюю школу, летные курсы, техникум — все это заочно. Налетал многие тысячи километров, совершая патрульные рейсы над тайгой. Нет, пока врачи на спишут на землю, из лесной авиации не уйду. Люблю это дело! Люблю русский лес. Живем вдвоем с отцом на Вечном Пороге. Там наша авиабаза. Здесь, в Кедровом, оперативное отделение. Вот и патрулируем северные леса. Отец давно реабилитирован, восстановлен в партии. Работает на строительстве плотины на Ыйдыге. Он ведь у меня инженер-энергетик.
— И вы не простили матери? — почему-то с робостью спросила я.
— Она не нуждается в прощении. Она вышла замуж, у нее другой сын, еще маленький. Брата я никогда не видел. Раз или два в год она присылает письма, я отвечаю. Иногда говорим по телефону. Вот вам и вся моя история. Несложная!
Он улыбнулся — своеобразная у него улыбка — и осторожно поднял свесившуюся до земли руку Дани.
— Устал бедняга! — заметил он ласково. — Пусть спит. Пойдем узнаем, как Ефрем Георгиевич.
Мы пошли к больнице. В это время подъехала машина и из нее выскочили бледная Мария Кирилловна и Жаров.
— Ефрем? — спросила она. Губы ее прыгали, и она никак не могла удержать их. Я, как могла, успокоила ее. Мы все вошли в больничный вестибюль. Минут через пять к нам вышла хирург — худощавая пожилая женщина с желтыми от йода руками.
— Будет жить! — поспешно крикнула она Марии Кирилловне. — Ну-ну, не плачьте, милая!
Когда Мария Кирилловна немного успокоилась, хирург рассказала: у Ефрема Георгиевича огнестрельная рана, выстрел был с близкого расстояния. Отдельные дробины проникли довольно глубоко. Он мог бы истечь кровью, но мох прекратил кровотечение. У Марии Кирилловны опять брызнули из глаз слезы, но она улыбнулась светло и благодарно.
— Все годы Ефрем отдавал лесу свою жизнь, и лес пришел ему на помощь в смертный час. Можно мне пройти к нему?
— Конечно. Его положили в отдельной палате. Ефрем Георгиевич еще спит после операции. Сейчас поставим туда вторую кровать. Вам тоже надо отдохнуть, вы же еле на ногах держитесь.
Врач увела Пинегину. Мария Кирилловна даже забыла спросить о Дане. Мы пошли разбудить его.
Директор лесхоза взял Даню с собой в машину.
— Пусть пока поживет у нас, — сказал он, — мама о нем позаботится. Вы поедете с нами, Таиса Константиновна?
Я объяснила, что мне надо сходить к Чугуновой. Он скользнул взглядом по стоявшему рядом Лосеву, кивнул нам приветливо головой, и машина тронулась, поднимая пыль. Жаров правил сам. Славный директор лесхоза, бывший акробат.
— Если разрешите, я пойду с вами, — подумав, сказал Марк, — Если Виринея Егоровна в сознании, я хочу успокоить ее насчет Харитона.
— Его найдут?
— Не знаю. Во всяком случае, раз Пинегин жив…
Дом Чугуновой стоял неподалеку от больницы, как раз с этого конца села. Но мы опоздали.
Ее тело обмывали, когда мы пришли. Полон дом старух — охающих, причитающих. Косо они посмотрели на нас. Одна мне показалась доброй и приветливой (чем-то напомнила московскую соседку Пелагею Спиридоновну), я спросила у нее, послали ли старшему сыну телеграмму. Оказалось, что адреса никто не знает, будут искать письма. Вероятно, они в сундуке, но сундук заперт, и его еще не открывали. Я обещала дать телеграмму, старушки подобрели. Рассказали, как умерла Виринея Егоровна. Так и не пришла в сознание. Врач сказал: кровоизлияние в мозг.
— Она, сердешная, как услышала, что Харитонушка — убивец, так ее и хватило, — сказала та, что похожа на Пелагею Спиридоновну. Ее звали тетя Флена, так к ней обращались все без исключения, даже кто был старше ее лет на двадцать.
— Как же вы ей так сразу и сказали? А если бы не Харитон стрелял… вы же не могли знать.
— Так он же ей сказал — Харитонушка! — Тетя Флена горестно покачала головой в белом платочке, повязанном под подбородком. — Сам ей сказал. Должно, думал, она крепкая, выдюжит. Ан нет! Он ее положил на кровать, собрал, что нужно с собой в бега, и сходил за мной. Дескать, тетя Флена, иди к матери, а я ухожу в тайгу. Я, говорит, убил- лесника.
— Вы думаете, его не поймают?
— В тайге-то? Она, матушка, хоть кого скроет. Разве сама от него откажется… Бывает и такое. Тогда выдаст или самолично казнит. Да Харитон с ней в дружбе. Он с начальством никак не ладит, а медведь ему друг и брат.
Тетя Флена говорила певучим северным говорком. Тайга для нее была живой, разумной, справедливой. Видно было, что человек этот родился, вырос и состарился в тайге.
Мы собрались уходить.
— Зайдите проститься, ее уже обрядили! — предложила тетя Флена и раскрыла перед нами дверь в «залу».
Виринея Егоровна лежала на том самом столе, за которым мы еще недавно пили чай. На ней был сарафан и белая, пожелтевшая от времени шелковая кофта с пышными рукавами. Вероятно, давно приготовленный «на смерть» старообрядческий костюм. Виринея Егоровна казалась более живой, чем при жизни, хотя были закрыты яркие глаза ее. Пергаментная кожа уже потеряла последний блеск — след живого, но в чертах лица разлилось спокойствие и скрытая при жизни доброта. Может, обманчивая.