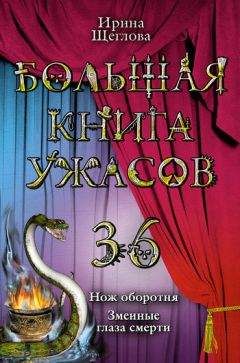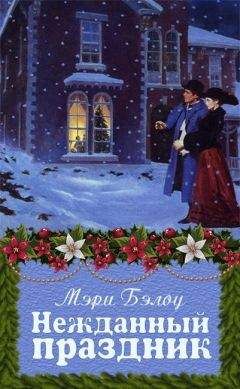Марк Харитонов - Этюд о масках
— Всего не придумаешь сам.
— Тут ты попала в самую точку. Возможно, ничего нового вообще уже не придумаешь. Сплошное раздолье для пародии. А в этой области я слишком натаскан, чтобы воспринимать всерьез слова о трагизме века и современном апокалипсисе.
— Почему же, — тихо произнесла Нина. — Ведь действительно было столько страшного. Каждый день об этом нельзя думать, и не вместишь всего, не представишь, но все-таки… Мы ведь с тобой по возрасту пережили войну. А эти две старухи и того больше. Они, конечно, выглядят смешными и все стараются воевать друг с другом, но ведь досталось им от жизни одинаково — и не в шутку. У обеих никого на свете не осталось, сыновья в войну погибли, мужья еще раньше. Даже пенсии до копейки одинаковы.
— Во-первых, мой муж не погиб, — резко опровергла из пространства Анфиса Власовна — и Скворцов заметил, что, не выдержав неудобной позы, они с Ниной давно отслонились от стены. — А во-вторых, он посмертно реабилитирован. Нечего сравнивать.
— Когда заболеют, они ухаживают друг за дружкой. Врозь бы они и недели не выдержали.
— Почему же не сравнивать? — обиженно заныл голос баронессы. — Меня, если хотите знать, саму приговорили к смертной казни за то, что я была дворянка и носила парижские туфельки тридцать второго размера. Как сейчас помню…
— Ой, что ж я сижу! — спохватилась вдруг Нина. — Ты ведь пришел голодный.
— Нет, есть я не хочу. Попить разве.
— У меня есть только молоко.
— Молоко у нас нынче порошковое, — предупредил голос Анфисы Власовны.
— Спасибо, это ничего, — ответила в пространство Нина, наполняя стакан.
— …так вот, я сидела в тюрьме, передо мной решетка… это сейчас у меня руки обмороженные и суставной ревматизм, а тогда у меня были тонкие длинные пальцы. Я просунула их через решетку, открыла окно и увидела перед собой главного палача. Он посмотрел на меня и опустил взгляд. Он не смог выдержать моего взгляда. Молча открыл дверь тюрьмы и выпустил меня. Все другие приговоренные к смертной казни были поражены.
— Налей еще, — попросил Скворцов, отдавая пустой стакан Нине. — Давноне пил молока. Хорошо… ишь ты. И больше не хлопочи, посиди лучше со мной. С тобой все видишь немного иначе. Даже этих колдуний. Настроить бы так взгляд насовсем. Только кто из нас дальтоник? Думаешь, очень весело во всем распознавать ухмылку, анекдот, пародию, читать задушевные стихи — и не очаровываться, потому что и там полно пищи для твоих зубов? А сам попробуй выскажись! Хочешь, выдам тебе секрет? Я не всегда умышленно пересмешничаю. Иногда я начинаю писать всерьез — и даже очень часто начинаю. Но все произнесенное всерьез так уязвимо. Нет истины, которой нельзя было бы состроить рожу; а истины стеснительны, они краснеют от усмешки — лучше бы им не показываться. Одна ирония ничего не боится, и единственный неуязвимый стиль — пародия. Я очень скоро начинаю на себя смотреть со стороны и сам себе подсвистывать. А под конец, глядишь, и вовсе зарезвлюсь. Так получались самые блестящие и тонкие мои штучки. Можно бы, конечно, не выдавать себя, сохранить до конца убежденный вид, и даже почти искренне. Многие так и делают; со стороны трудно разобраться. Но я сам слишком честен для этого. Представь себе, слишком честен. Да ты и так мне веришь. А вот один бородатый умник разоблачил вчера сокровенную мою надежду. Раньше меня самого. Сейчас я вспоминаю: кажется, он прав. Вдруг он прав, а? Единожды состроивший рожу — кто тебе без нее поверит? Сам-то хоть — поверишь? Опять разве что ты.
Он взглянул на Нину, в ее глаза с огромными зрачками, внимательно и нежно смотревшие на него, — понимала ли она, о чем он говорит?
— Слушай, отчего мы до сих пор не поженились? — сказал вдруг Глеб. — Ты была бы мне идеальной поправкой. Может, все и стало бы на свои места? Поженимся давай, а?
— Не надо об этом, — попросила она.
— Почему не надо?
Нина промолчала.
— Ну ладно, ладно, — пробормотал Скворцов и привлек ее к себе поближе, еще поближе, чтобы полнее ощутить власть над этим маленьким тонким телом, таким покорным в его руках, над этой умной самостоятельной девочкой, которая никак не оспаривала его превосходства, но оставалась сама по себе, в то время как он рядом с ней необъяснимо менялся. В его тяготение к ней то и дело примешивался недобрый, самолюбивый, мстительный оттенок: вот ведь ты как умна, как мила, как независима, а подчинишься мне, какому ни есть? — подчинишься, и как еще… вот ведь как… вот ведь как; ведь удивительно, что я нашел тебя в этой щели — экспериментальное существо, выращенное на питательном бульоне детских воспоминаний, книг и музыки из грошового репродуктора; ну скажи хоть, что тебе хорошо со мной, что ты сейчас счастлива и разрыдаешься, когда я уйду… вот то-то же… то-то же… то-то же… а я промолчу в ответ…
— Легли уже, — прокомментировал из кухни голос Анфисы Власовны.
— Ой, боже мой, ну зачем вы такие ужасы! — испуганно заныла баронесса. — Мне и так под утро снились одни кошмары, одни кошмары!
— Ну-ка, ну-ка, — насторожилась Анфиса Власовна, — какие такие кошмары?
— Я разве сказала кошмары?
— А то кто же?
— И вообще я не обязана отчитываться вам в своих снах, — попробовала сопротивляться баронесса.
— Как это не обязаны? — даже удивилась Анфиса Власовна. — Особенно если говорите о кошмарах.
— Не такие уж и кошмары. Мне снилось, что я разрезаю котлету ножом и никак не могу разрезать. Нож тупой, вы знаете, какие сейчас ножи. А главный-то кошмар, что я знаю: котлеты ножом не режут. И мне так стыдно, так стыдно!..
За окном давно была глубокая ночь, но голоса старух бессонно бодрствовали, и Скворцов уже этому не удивлялся.
— Знаешь, здесь из окна видна всегда единственная звезда, — произнесла Нина. — Больше не помещается. И без созвездий трудно догадаться какая. Да я их все равно не знаю. Помню с детства только одну, яркую-яркую, мне показал ее один старик в таборе и назвал Сантела. Почему-то мне кажется, что это она и есть. Я очень запомнила ту ночь, такую черную, что чернота была как жидкость; казалось, я плаваю в ней. И я тогда впервые открыла для себя, что небо — не где-то отдельно вверху, как рисуют дети, что оно начинается вокруг. Мы ходим среди него, прикасаемся, раздвигаем своим телом. Кругом была степь, и звезды плавали совсем недалеко; если б было дерево повыше, можно б было залезть и дотронуться… Я все-таки много успела увидеть, — улыбнулась она в темноте. — Только подумаешь, что некоторые никогда и не видели такого неба — во всю ширь, от горизонта до горизонта. А я бегу утром в магазин мимо тесных домов — но уже помню, что хожу среди неба.
— Верно, в городе можно забыть, что бывает такое, — хмыкнул Глеб. Недобрая минута прошла, точно лопнул и рассосался гнойник; ему было хорошо лежать рядом с Ниной и глядеть на одинокую цыганскую звезду Сантелу. — Я ведь тоже, помню, ездил когда-то в ночное. Картошку в золе пекли.
— А я помню, как на костре пекли мамалыгу с салом.
— Ишь… с салом. Вы, я смотрю, неплохо там питались. А из лебеды суп едала?
— Из крапивы ела.
— Суп еще хорош из заячьей капусты, — заметил голос Анфисы Власовны.
— И из черепахи, — вставила баронесса.
— Из крапивы и хлеб неплохой.
— А лепешки желудевые?
— И кофе, — вставила баронесса.
— Колобашки из куглины, — наперебой вспоминали они вчетвером, вдохновленные темой, внезапно общей и бесспорной для всех.
— Пареная каша из дягиля.
— И из крапивы.
— Про крапиву уже говорили, Регина Адольфовна.
— Вы всегда не даете мне слова сказать, — оскорбленно заныла баронесса. — Как будто вы одни голодали.
— А вы, что ли, голодали?
— Да я, если хотите знать, однажды неделю ничего не ела. Пришел врач, идиот, прописал мне для аппетита мышьяк и горчишники по пять минут. Но я еще с ума не сошла, чтобы есть мышьяк, я была в здравом уме и твердой памяти. Я ему сказала: доктор, мне от голода лучше всего помогает колбаса. И шоколадные конфеты. Или хотя бы безе…
— Тс-с, — сказал вдруг голос Анфисы Власовны, и все замолчали.
— Кажется, мама? — прислушалась Нина.
— Показалось, — дала отбой старуха. — Так вы что-то хотели сказать, Регина Адольфовна?
— Я? — испугалась баронесса. — Это вы что-то хотели сказать.
— Не помню. А на чем мы остановились?
— На безе.
— Да. Моя кухарка прекрасно делала безе. У меня были две кухарки, белая и черная. Очень порядочные женщины, сейчас таких нет. И они так пекли безе — я была от него без ума.
— Позвольте, Анфиса Власовна, — робко вставила баронесса, — про безе — это должны быть мои слова.
— Почему это ваши?
— Да потому что мои!
— Да почему это ваши?
— Да потому что мои! Вы всегда все присваиваете, Анфиса Власовна, а сами хоть знаете, что такое безе?