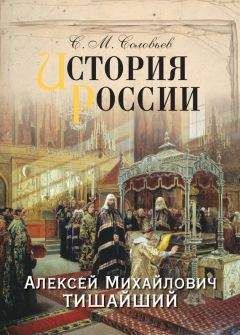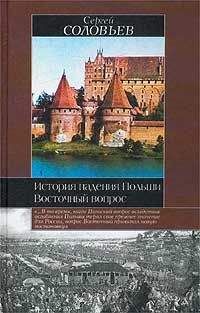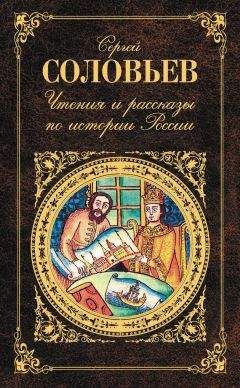Сергей Соловьев - Прана
И эта фраза, последняя, никак до меня не доходит. Чья рука?
Удерживает от чего, где?
И я вспоминаю ее сон. Еще там, на том свете. Она выходит на залитую солнцем веранду. Столики, люди. Видит меня, сидящим у края, спиной к нему, за которым обрыв. Я не вижу обрыва, стул качнулся, лечу, но в последний момент успеваю схватиться рукою за край. Она подбегает, не видит меня, только пальцы. Хватается, тянет. Рывок. И в руках у нее
– вся рука, без меня. Помню, как она мне это сказала. Жесткой скороговоркой, как мне показалось. С нескрываемой, как мне показалось, досадой. На выставке желтых пустынных картин, перечеркнутых наискось горизонтом. Висевших в таких же пустынных сводчатых коридорах. У подоконника. Меленький снег за окном.
– What? – произносит она одними губами, поднимая глаза ко мне.
– Нет, – говорю, – все хорошо. Спи.
Снег. Такой же меленький стоял в окне после той, новогодней.
Когда я проснулся, ее не было рядом. Записка. Взгляд выхватил сразу
– из середины – спросонок: покончить. Чуть ниже: уйти в тишину. И: жизнь – между ними.
Спокойно, шептал я себе, спокойно, подойдя к окну и глядя на этот меленький. Сколько я ее знаю – ночь? Все может быть. Она говорила: эти волшебные искорки на реке на рассвете, когда она смотрит на них с моста, притормозив на велике, – вот что так дорого, вот где отрада… Спокойно. Здесь где-то ошибка. Меленький, чуть косящий. И это ее еле слышное "what?" – там, во тьме, подо мною, с ее – так порывисто всплывшими к моим – нежно встревоженными глазами.
Шаги. Ключ проворачивается, и – она на пороге. В длиннополой дубленке с заснеженным капюшоном. Виснет на мне, поджимая ноги. Руки мои – за ее спиной, и записка в руке. Смеется. Этот почерк цветущий, плюс вольный английский, плюс ночь. Пошла по снежку побродить в тишине.
Приехали. Расплачиваюсь. Дэньява, – говорит она мальчику, положившему голову на руль. Спускаемся по пустынной светающей улочке. Вдруг слышим – из-за забора, за которым пустырь: Good night
– детским девичьим голоском. Оборачиваемся: помахивающая ладошка, просунутая сквозь щель, и над нею – прильнувший распахнутый глаз.
Идем, а она все повторяет, оглядываясь: good night, good night… Я беру в ладони ее лицо, она отводит глаза, и я вижу, как подрагивают ее губы.
Вымотались. Лежит на краешке, даже руку, свесившуюся к полу, не подтянуть. Каждый шаг, каждый взгляд континенты в тебя сгружает.
Кажется, мелочь: окно, лицо в окне; утро, небо в мелеющих рытвинах; чистка зубов на рассвете – всем миром, на корточках, вдоль канавок; глаз ослика, как зеркальце обратного вида, в котором отражена вся улица, а приглядись – вся пройденная дорога… Отсюда и эта чудовищная усталость. Пальцы гудят, ресницы ломит. Лежит на краешке, без подушки, травка желтая лицо застит, повисший стебель руки. Даже спать сил нет. Пойду поморю себя, почитаю. Выключил свет. Вышел.
Сижу в нашем крылатом дворике, спиной к сетке, за которой баньян со спящими на ветвях обезьянами, уткнувшими в колени головы, за которым река, во тьме пересчитывающая свои ребра.
А перед лицом – стена, на ней, под потолком – ночник, вокруг него – три геккона, а один – на потолке. И – летучие тараканы – в зоне света.
Они передвигаются, не складывая крыльев, как мелкие самолеты на провинциальном аэродроме, по незримым дорожкам, блюдя Эвклида.
Гекконы образут треугольник, вписанный в световой круг. Мандала. Не шелохнутся. Даже когда тараканы переползают их лапы. Сидят усидчиво, притворясь брошенными бензовозами. Выжидают.
А тот, за скобкой световой, всевышний, висит на трех лапах, а четвертую запальчиво разминает на незримом пульте. Диспетчер.
"Ведийские гимны разделялись на слоги и читались сначала по слогам в обычном порядке. Второй вариант предполагал рецитирование текста с учетом правил соединения слогов в слова, третий вариант – чтение по слогам, организованное так: первый слог плюс второй, второй плюс третий и так далее. Четвертый вариант: первый слог плюс второй, второй плюс первый, первый плюс второй, второй плюс третий и т.д. Пятый способ: первый слог плюс второй, второй плюс первый, первый плюс второй, затем третий, второй, первый".
Амир говорит, если бы при Ганди государственным языком был выбран санскрит, а не хинди (при голосовании перевес был незначителен), у
Индии и, разумеется, шире – была бы иная судьба. В чем загадка русской души? Смотри синтаксис. Умом Россию не понять? Смотри грамматику.
Бежит по световому кругу, выруливает на взлетную. В кабинке бензовоза мигнул свет, капот приоткрылся. Диспетчер наблюдает, свесив голову с потолка, слюдяной полоской залеплен рот. Лила, божественная игра.
"Если шудра будет намеренно прислушиваться к чтению вед, его уши следует залить расплавленным свинцом. Если же декламирует ведийские гимны, ему следует вырезать язык. Если он запоминает их, его тело следует рассечь надвое"
Сцапал! Облизывается.
А вчера как-то вдруг, на ходу, спрашивает:
– А что, по-твоему, главное в человеке?
– В каком смысле? – говорю.
– В твоем.
– Сомнение, – говорю.
– А как же свобода?
– Так в нем и свобода.
– А радость?
– Да, – говорю, – для печени.
Губу закусила.
А если всерьез, как ответить? Не ей, не на ее слишком поспешный, как мне всегда казалось, рывок – опередить колебанье решеньем. Слишком – какой? Малодушный? Ранимый? В кавычках мужской? А что б я ответил себе?
Спи, пес, спи.
Просыпались мы под ангельскую музыку и пение вишнуитов. Такую мелодию мог бы насвистывать какой-нибудь младший ветерок, вольно кружащийся в новорожденном небе – когда еще видно было во все края и травинку посасывало в полусне безбородое время. Откуда, из какого ашрама она доносилась, мы никак не могли понять, замирая, как охотничьи псы, принюхиваясь к рассветному ветерку. А она наплывала то с запада, то с востока, то из-за реки, отдаляясь, смолкая, и вдруг возникала у нас за спиной, прямо за дверью.
Этот, за нос водящий нас заговор гор, отраженных в мутящемся зеркальце Ганга, день за днем нас преследовал как наважденье, эфирный наркоз… Я растягивал пробужденье, пробрасываясь по-дельфиньи, внамет, меж двух стихий – сна и этого пения с подглядкой на Ксению, уже сидевшую на светающей лоджии, на полу, с блокнотом на коленях и беглой улыбкой к прижавшимся к решетке обезьянам, все пытавшимся выцепить из ее руки приплясывающий карандаш. И тихонечко подпевала. И я снова заныривал в сон.
В то утро я поднялся раньше ее, вышел. На улице, у порога, сидел крупный одутловатый самец рыжего бандера, свесив на грудь голову и угрюмо уставясь на свои ступни, постукивающие по мокрому асфальту. Я вернулся за фотоаппаратом.
Он все постукивал. Глядя сквозь окошко камеры, я приближался, видимо, в какой-то момент утратив ощущенье реальности, пока чуть ли не ткнулся объективом ему в лицо. И в тот же миг нажал на спуск, вспышка – и такая же вспышка в глазах бандера.
Он вскинул руки и начал трясти ими над головой. В разъятом рту его трещало, искрясь, мощное замыкание.
Я отпрянул, он прыгнул ко мне – не укусить – выбить из рук камеру. Я снова отпрянул, пряча камеру за спину. Он шел на меня, вытянув руку с указазательным пальцем, – срамя, покачивая головой.
Я, как мог, извинился – принес ему вязку бананов. Он сидел в прежней позе, постукивая ногой.
И тут я снова услышал эту музыку – совсем рядом, и пошел на звук.
Оказалось – еще ближе, за углом. Каждый день мы десятки раз проходили мимо этого ашрама, стоящего чуть особняком, как и наш, над рекой. Я вернулся за Ксенией.
Стоял и смотрел, зная, что не спит.
Она потянулась ко мне руками, не открывая глаз, и порывисто-плавно обвила, увлекая вниз, за собой.
Только зыбкая легкость ладоней ее – этот солнечный трепет в листве, и во рту этот морок тягучий ее языка, и коленей ее плавунки; и обвила, струясь, расплываясь, лиясь и сплетаясь в двух тел водяное веретено.
И потом – этот сдвоенный сполох, слепя и кривясь, расщепляющий тьму.
И бездонно дрожащий проем, осыпающий жар. И пустые уключины сердца.
Не обвила. Не потянулась. Зевнула. Открыла глаза и, чуть виновато в себя приходя, улыбнулась.
Мы сидели на ковриках в залитом солнцем ашраме; она на женской, я на мужской его половине, покачиваясь в такт мелодии. Точнее, раскачивался я, вместе с горящим рядом со мной садху – тучное пламя его одежд, над которым вилял дымный клубень его головы. В отличие от меня, стиснутого со всех сторон, Ксения сидела в жиденькой стайке женщин, в медитативной позе, прикрыв глаза. Прибывавшие пританцовывая пробирались к лубочному, лоснящемуся от просветленья
Кришне – двухметровому, шарообразному, беспробудно царящему на алтарном столе и, потрепав его по щеке или чмокнув в колено, рассаживались. Музыканты лепились в гуще со всеми, подъяривая друг друга, меняясь на ходу инструментами, голосами, входя в затяжной упоительный транс. То и дело один из инструментов они пускали по рукам над головами или кто-нибудь из дальних протискивался к ним, подсаживаясь к барабанам, микрофону или ситаре. Перед Ксенией, спиной к ней, сидела женщина, чей темный профиль с большим лошадиным глазом из-под платка, носом с тягучей горбинкой и тысячелетним ртом, однажды увиденный, втягивая, уже не отпускал от себя.