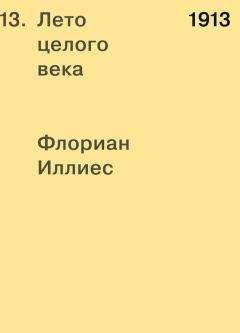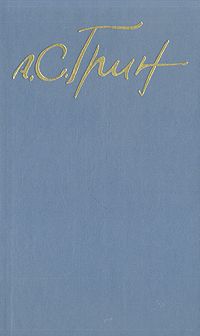Андрей Комов - Аноним
У меня опустились руки, я ощутил вдруг некую непонятную силу, которая рывками впихивала меня в чужой, узкий костюм, и я стал ловить себя на навязчивом отвращении к самому себе.
Я просыпался с этим ощущением по ночам, садился к столу, открывал свои записи, но рука не слушалась, словно не имея сил дотянуться до белого листа. Также "отодвигалось" от меня мое сознание, мысли, чувства, — словом все, что называют личностью. Я "видел", как эта личность живет независимо от меня, как она все делает свое житейское дело, и ощущал, что я — шире ее и не помещаюсь в ней, что я — живой. И мне страшно от этого и непонятно, кто я есть.
Говорил ли мне секретарь Ученого Совета, что моя защита отложена, узнавал ли я слух о том, что хочу кого‑то подсидеть, брался ли за переделку монографии, — я всегда чувствовал себя виноватым и терялся. Именно этого, казалось, и ждут от меня. Я негодовал, противился, но видел, что уступаю, и чувствовал все ту же силу, запихивающую меня в узкий "костюм" вынужденного поведения.
Вскоре после истории с заявлением об уходе мне удалось получить что‑то вроде отпуска на неделю. Механизм слухов тогда резко отработал назад, и я неожиданно приобрел репутацию человека, "умеющего постоять за свои убеждения".
Впрочем, меня это уже мало волновало. Но, видимо, это обстоятельство или совпадение каких‑то других причин помогло мне получить направление на Международную конференцию социологов, проходившую в городе, где я родился и где не был с 35 года.
Сама конференция почти не осталась в моей памяти. Я смутно вижу маленький зал в новенькой гостинице, где собрались похожие на праздных туристов иностранцы, больше приехавшие из любопытства увидеть, что там "за железным занавесом", чем по делу, и наши ученые, не верившие, что все эти новшества будут серьезно у нас применяться. В номере со мной оказался ученый то ли из Киева, то ли из Одессы, молодой холерический южанин, с красным значком мастера спорта на лацкане пиджака, с большой черной бородой, молниеносно переодевавшийся из деловой "тройки" в тренировочный костюм и обратно. По вечерам он ненасытно звонил по междугородному телефону домой, затем около часа шуршал газетами на кровати и, наконец, принимался за меня. К сожалению, он не пил и не водил к себе женщин. Я был единственной его отдушиной. Для начала он рассказывал мне о своих политических спорах с иностранными учеными. Он владел английским, немецким и французским, и дело, видимо, было поставлено у него с размахом. Потом шли анекдоты, а после как‑то незаметно возникала его излюбленная тема — американская теория игр.
Чувствовал ли он собеседника, или был раз и навсегда запрограммирован только на одно, но особенное удовольствие доставляло ему разбирать семейные ситуации. Он говорил мне о заполнении коммуникативного пространства, о внутреннем и внешнем преимуществе, о подсознательной заданности ситуации и антитезе ей, а я чувствовал ком в горле и изо всех сил сдерживался, чтобы не говорить, не отвечать на его слова, не открывать рта.
Я не верил ни одному его слову и почти не слушал. Мне давно было ясно, что все происходящее в семье не имеет объяснения на человеческом языке, но меня гипнотизировал сам этот мерно вышагивающий по комнате человек, его жизнеутверждающий прагматизм, в котором мне виделась все та же гнувшая и ломившая всех без разбору сила.
Наконец, он уставал от моего молчания и начинал есть, пить чай, жевать, шуршать обертками от бутербродов, а я выходил на улицу.
Был март, и везде еще совсем по–зимнему лежал снег. Но днем уже ярче выделялись контуры зданий, и серое небо не источало прежнего полумрака. Вечером же и ночью на улице было так тепло, что не хотелось возвращаться в помещение. Я специально выходил на улицу вечером, надеясь, что в темноте невозможность узнать что‑либо в родном городе после стольких лет будет мне не так неприятна.
Я ехал в центр, который, казалось, помнил больше, но и там терялся на каждом углу. Здания и улицы, о которых я забыл, постоянно пересекали небольшие островки знакомых мне мест, и все путалось в моей голове. Такой длинный прежде главный проспект стал без привычных трамваев широким, как стол, и будто укоротился. Дворцы и соборы появлялись на моем пути как‑то совсем буднично, и их реальный облик в свете прожекторов, с людьми и машинами вокруг, никак не давал мне вспомнить картины моего детства. Я ехал через мост, надеясь увидеть тот неповторимый узор светящихся в дали фонарей, который был для меня лицом города, тех фонарей, что проникли в полудрему моего детства, когда я засыпал в тряском трамвае на руках у матери; но мост оказывался слишком коротким, и узор, мелькнув, исчезал. Я пытался найти улицу и дом, где мы жили, но, не помня адреса, обнаруживал сразу несколько знакомых мест, и только школу мне удалось признать в перекрашенном из красного в зеленое здании, лишенном колоколенки, с незнакомым мне большим деревом во дворе. Ему было лет сто или больше, и что‑то особенно грустное было для меня в этом.
В середине дня, после заседаний, мой сосед уезжал по магазинам, и я оставался в номере один. Я ничего не делал, не читал, не писал, не слушал радио, не спал, не ходил и, кажется, переставал существовать, погружаясь в блаженную пустоту светло–серых стен и черно–стеклянного блеска гравюры в рамке. Я проводил рукой по коричневому зеркалу стола, и мои дрогнувшие ноздри вдруг улавливали исчезающий запах сырых досок крыльца после дождя, прибитой каплями пыли и осязаемую влажность воздуха, а сам я оказывался у толсто накрашенного подоконника и безнадежно белой занавески, в Куйбышеве, где мы жили с матерью, смотрящим на пронизанный холодом лес, на глинистую дорогу с лужами, взволнованно–завороженным этой неуютностью пустыни за стеклом.
"Опять ты берешь мои вещи без спроса, — говорил голос матери. — Иди в магазин, купи две черного и песку".
Я захлопывал медицинский атлас с красно–синим разрезом глаза и оборачивался.
В номере по–прежнему — пусто, только дверца шкафа с мелькнувшим зеркалом дугой плывет по комнате, открывая на стене черное с белым пятно моего города в металлическом блестящем квадрате.
Зазвонил телефон, и уверенный женский голос что‑то командно скандировал, возвращая меня в приятное начало простуды. Я спускался в аптечный киоск и потом в буфете, грея руки о чашку, снова видел плывущую стену домов с неживым блеском стекол. Следом двигались бесконечно переезжающие с места на место люди, никогда потом не видевшие дома, где родились.
Мелькал арест отца в 35–м, проезжала наша высылка с матерью в Куйбышев, а потом в 41–м — в Сибирь, казенной нежитью вертелась в руках в 58–м "справка о смерти", разменявшая жизнь моего отца, фестивальным румянцем наливались портреты вождей на улицах, и снова шли и шли безымянные в кепках.
От чая меня начинало подташнивать, я перебирал руками остывающую чашку и вспоминал, как однажды в Куйбышеве услышал разговор соседки с матерью о том, что какого‑то человека заставили подписать обвинение, пригрозив арестом жены, как раз ожидавшей свидания с ним в небольшом дворике, видном из окна кабинета следователя, и как я долго думал затем, что именно так было и с моим отцом.
"Не то, все не так", — возвращался я к своим размышлениям, чувствуя, что воспоминания заслоняют картинками–иероглифами какой‑то недосягаемый для памяти туман внутри меня.
Я возвращался в номер и опять неподвижно скользил в вязкую глубину. Но зримые образы вновь преследовали меня, и мне чудилось, что отец везет меня на деревянных санках без спинки и почти бежит, а из моей рассеченной брови капают капли на рейки санок, на мокрую варежку и розовую полоску запястья у рукава. Я ощущал еще тот мороз, ненатуральный испуг отца, зуд ранки и вновь переживал беспокойное блаженство. Но как только я хотел понять, в чем оно, — все исчезало. То я видел себя и мальчишек из нашего дома по обе стороны длинной сточной канавы с темно–зеленой травой: мы едим грязную морковку, и сосновый парк вдали густо чернеет сырым мраком теней. То заставал себя у платяного шкафа в номере, щупающим негреющую ткань моего осеннего пальто и проклинающим себя за легкомыслие. То оказывался в постели и, открывая глаза, вдруг вспоминал Сибирь, сани с убегающей лошадью, холодный звон колокольчика, мать в платке, с не идущим к ней "докторским" саквояжем — ее фельдшерским багажом, рядом с матерью — говорливого молодого мужика с красным лицом и себя самого, ревниво–мрачного и невольно улыбающегося от его шуток, и снова лес, зависающий над головой. "Что же было все это?" — спрашивал я себя и повторял эту фразу несколько раз, чувствуя, как она становится пустой и непроницаемой. То я видел вдруг себя в военной форме, в тот первый и странный раз в жизни, когда я растерянно вспоминал юношу–красноармейца на перроне вокзала, с гадливым отвращением бившего ногой в живот мою мать, пытавшуюся увидеть еще раз отца. Затем все путалось. Я опять видел куб комнаты в гостинице, появлялся мой сосед, и мы продолжали бессмысленный разговор.