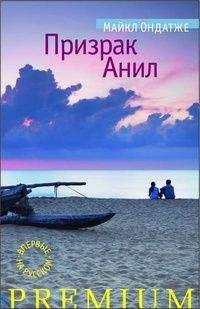Станислав Золотцев - Столешница столетий
Тут я уже не говорю вам: представьте себе. Нет, при самом богатом воображении вы и представить не сможете того, что произошло со взрослыми, сидевшими за тем столом. Для начала упомяну лишь две подробности. У одного гостя выпала из пальцев не донесённая до рта рюмка и со звоном разлетелась на фрагменты, упав на пол. Второй гость свою рюмку до рта успел донести, но поперхнулся её содержимым так сильно, что схватился за грудь, словно в неё кол вбивали. И оба гостя совершенно остолбенели… Через годы, став зрителем гоголевского „Ревизора“, который, как известно, завершается „немой“ сценой, где все действующие лица застывают в потрясении, я живо вспомнил тех двоих „ответственных товарищей“: с ними произошло примерно то же самое! Смотреть на них было одновременно и жутковато, и немножко забавно.
А вот на „дядю Портфеля“ глядеть мне было просто страшно. С ним случилось что-то вообще невообразимое. Его всего словно какой-то лютой судорогой пробило, свело и перекорёжило. Глаза выкатились, челюсть отвисла и застыла в таком положении, „морковка“ носа сморщилась, будто от мороза, и всё его лицо выглядело не просто перекошенным, а, как в таких случаях говаривал мой дед, „перехеренным“. Сначала смертельно побледнев, хозяин дома затем пошёл разноцветными пятнами, а потом, издавая горлом несвязные хрипящие звуки, стал краснеть, и через несколько мгновений был уже налит бурой кровью. Его трясло — но затрясло и меня: так он был страшен, и, главное, мне подумалось, что он вот-вот лопнет от напряжения, умрёт!
…Но есть, всюду она есть, высшая спасительная справедливость. И она дала о себе знать звуком дверного звонка. Это за мною пришёл мой отец.
…Мне запомнился отрывок разговора, который вели они меж собою, папа и хозяин дома, вели уже вечером, уже растащив по домам вусмерть упившихся „высоких гостей“. Они сидели на кухне, отец — слегка захмелевший (он вообще всю жизнь прожил почти полным трезвенником, в отличие от своего отца и — каюсь — от сына своего), а его дальний сродник был несколько более хмельным, но не пьяным: после случившегося его и спиртное долго не брало. Я же делал вид, что вожусь в прихожей с игрушечным грузовичком, который отец мне привёз в подарок, сам же его и смастерив, — покупать такие игрушки в магазине сельским учителям было не по средствам в те годы, впрочем, как и в нынешние. На деле же я пытался понять, о чём толкуют старшие.
— Эх, Саня, — тяжко вздыхал хозяин квартиры, — ведь под монастырь меня вся эта история подвести может. Да и не под монастырь — а под статью. Дай Бог, что эти гости мои назавтра спохмела всё позабудут, чего тут мальчонка твой накудесил. На то и надеюсь, не первый раз пил с ними: как нажрутся покрепче, так наутро ничего не помнят про вчерашнее, водочка им всю память отшибает. Ну, а как не отшибёт на сей раз? Что тогда? Если хоть один из них заяву напишет, как говорится, делу ход даст, что тогда? Попрут ведь меня тогда, и хорошо, если не с волчьим билетом. И понять-то их тоже можно будет в таком разе: как же — тут и воспитание малолетнего в духе религиозного дурмана, и над портретом Карлы-Марлы измывательство!.. Да, Николаич, скажу тебе откровенно: не будь наши отцы брательниками, да не уважай я тебя ещё с мальчишечьих наших годов, а уж после войны так и особенно — сам бы, может, бумагу накатал куда следует. Как хошь обо мне думай, а, скорей всего, накатал бы! Ну, ты сам помысли: что случись, если эти двое скандал подымут — куда я денусь, а? Со своим-то незаконченным семилетним, а? На трактор, как до войны? Так что, Саша, худо мне, боязно…
— Да брось ты Лазаря петь, что ты себя хоронишь до времени, ерунда это всё, — бодрым хрипловатым голосом утешал его отец. — Ничего тебе не будет, помяни моё слово. Я таких дешёвок, как эти два желудка в сапогах, навидался — и на фронте, и в других местах, — вот только на передовой их не было видно почему-то… А память им отшибёт, ей-богу, отшибёт! Такие суки только с виду крепки, а нутром хлипки. Мы с тобой верно сделали, что в каждого из них ещё по бутылке влили: я таких нутром чую, как только их увидал у тебя, сразу понял: надо им все канистры залить, тогда наутро у них в башках абсолютный вакуум будет… А если кто что и вспомнит — не станут они шум поднимать, не совсем же идиоты, понимать должны, что это им дороже выйдет, их же запачкает, с них спросят: что ж вы в таком худом доме водку хлещете? Так что зря ты на себя тоску нагоняешь, обойдётся!
— Да хорошо, когда бы по-твоему вышло, — уныло отозвался собеседник и собутыльник отца. И ещё раз вздохнув, завёл прежнюю песню: „Расклад-то у тебя ладный нарисован, людей ты знаешь… Ну, а что, как подведёт их соображалка, да сдуру и наклепают они на меня, что тогда? Ведь попрут меня с Дому Советов, ежели так выйдет, попрут!“ И в голосе „дяди Портфеля“ жалобно звякнула слёзная горечь.
— Эх, Созонтыч, — с жаром отвечал ему мой отец, — да разве такая уж это катастрофа. Это и беда-то не Бог весть какая. Ну, попрут, прогонят — а у тебя что, рук-ног и головы не останется? Брось! Башка у тебя многих потолковей и руки что надо: ты ж не зря совсем мальцом почти что первый среди местных ребят на трактор сел. Это уж потом тебя, перед войной, „выдвиженцем“ стали делать, по комсомольской линии двигать. А войну танкистом прошёл — шутка ли! туда ведь самых развитых брали, а ты аж до комроты дослужился… Стало быть, не праздновал труса там, на войны, что ж тут тут-то дрейфишь? (Горячась, отец часто переходил с литературного учительского языка на талабский „говорок“).
— Так то на войны… — вздохнул его сродник.
— Так фронтовик и после войны должен фронтовиком оставаться! — отрезал отец. (Это было, замечу, вообще одним из главных его жизненных убеждений, и ох как часто поскальзывался он на своей вере в неколебимое дружество людей, прошедших войну на передовой).
— …Попрут, говоришь, — продолжал мой родитель, — так оно, может, и к лучшему тебе выйдет. Тебя ведь в любой МТС[2] с руками оторвут, живым делом займешься, душу хоть распрямишь! Всё лучше, чем сейчас: ведь ты же в Доме Советов вроде мальчика на побегушках, уж не обижайся, Созонтыч. Мастеровой человек, а водишься вот с такими-то мордами протокольными, вроде этих двух пропитох…
Да вот хоть меня возьми, ты ж мою историю вроде бы знаешь. Я ведь тоже в Доме Советов было посидел. Вернулся после Победы, ещё с костылём, а Выхин, друг фронтовой, мы с ним в Керченской операции вместе были, он тут уже областным народным образованием заведовал, вот и меня в облоно затащил, посадил бумажки перекладывать. Ну, поначалу-то это мне было самое то, с ногой моей болезной, пробитой… А потом, оклемавшись, веришь ли — затосковал! Думаю: хреновиной занимаюсь, хожу по школам, наставляю людей, как детишек им учить, а сам-то в последний раз урок вёл ещё перед финской войной, с тех пор указку в руки не брал…
И тут меня особист вызывает. Смотрю — харя у него — за три дня не оплюёшь, только что не лопается с жиру, а глазками свинячьими прям-таки буровит меня. И Выхин рядом с ним, на меня глядит, как собака побитая… Вот особист и загнусавил: мол, что же ты при поступлении на работу скрыл факт своего пребывания в плену фашистском! Я вскинулся: ничего подобного, не утаивал, всё написал, даже то, какой отдел СМЕРШа меня проверял в сорок четвёртом, когда я из плена сбежал, а потом-то я опять воевал, до Берлина дошёл — а вот вы где тогда были?
Горяч я первое время после войны был… Ну, этот боров зубьями скрипнул и рявкает: „Всё равно, тебе с твоей биографией, с пленом твоим не в органах образования работать, а канавы рыть!“ Услыхал я это — в глазах потемнело, сам не пойму, как я ему не двинул в харю свинячью. Потому, наверно, что уловил, как Выхин смотрит на меня: почти что со слезьми… Сжал я кулаки и говорю, да спокойно так, даже с куражом каким-то: „А что, нога у меня вроде как заживает, могу и за канавы взяться, дело полезное, да и знакомое, в лагерях-то немецких не одну версту их выкопал, а тут — для своих, людям польза!“ А что ты думаешь: и лопату бы взял, когда б совсем припёрло…
…Ну, до канав-то дело не дошло. Определил меня Выхин в Дубровно, в самую глухомань нашу талабскую, — дескать, отсидись там пока, туда немцы, говорят, на второй год войны дошли, партизанский край… И что? подхватились мы с Анечкой моей, забрались туда — и два года жили, как у Христа за пазухой. Школа-то захудалая, кроме нас, ещё двое учителей, недокомплект, так что нагрузка здоровенная у нас была, да нам она только в радость. Таких детишек славных, как там — поискать! И таких спокойных лет, как там, у нас ещё не было, после войны да после всех бедований наших. Сейчас в Боровичи перевели, там работа посерьёзней, школа большая, ну, так и мы с Аней окрепли.
— Так твоя Анюта — женщина живая, тебе легче…» В голосе отцова собеседника слышались и досада, и горечь. «А моя тумба только одно и знает, чуть что блажит: ох, тошно мне, ох, помру! После сегодняшнего дня три отлёживаться будет… А ты бы всё-таки, Саш, потолковал со своими стариками, чтоб они мальца твоего в чьи ни попадя руки не отдавали. А то неровён час, брякнет он чего-нибудь… такое, как сегодня, да при таких людях брякнет, что тебе по темечку достанется! У нас ведь, сам знаешь, в родове люди разные, есть и вовсе тёмные… Но тебя-то, Николаич, мы все за то и уважаем, что ты, войну прошедши да в новое полымя попавши, не сломался… Давай ещё по одной, будь здоров!»